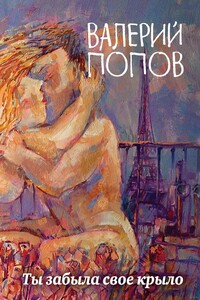Басманная больница | страница 30
Потом стала возвращаться чувствительность и по всему телу. Заныли после вывиха, хотя и вправленные, руки, задергали неизбежно возникшие пролежни, почему-то все тело, то равномерно-ноюще, то острыми уколами, заболело. Речь восстановилась, хотя постепенно и с трудом. Руки оставались неподвижными, только на левой руке ожил указательный палец. Тут подошла новая беда. После долгого перерыва, почувствовав свое тело, раньше такое сильное, а теперь все ноющее, распростертое неподвижно на кровати, я стал презирать и ненавидеть его и всего себя тоже. Я сделался мрачным, замкнутым, упрямо невосприимчивым даже к тому маленькому палатному мирку, который открывался моим глазам, к посещениям близких, к
врачам. Мне казалось, что внешне я совершенно бесстрастен, однако и медицинские сестры (они шутливо и сочувственно называли обитателей нашей палаты "беспозвоночными"), и Алексей Дмитриевич очень хорошо поняли мое состояние, почувствовали его. И тут я даже с некоторым злорадством заметил, что Алексей Дмитриевич стал нервничать. Я натянуто улыбался его грубоватым шуткам, вполуха слушал рассказы о различных событиях его прихотливой и во многом удивительной жизни. Он стал присылать ко мне свою жену-умную, изящную Нину Федоровну, врача-психиатра. Она приходила не раз и просиживала со мной подолгу, ведя в самом деле очень толковые, интересные разговоры, но мне не было до них дела. Я все больше терял вкус и интерес к жизни, все больше презирал себя.
Однажды вечером, когда все в палате уже спали и горел только неяркий ночник, находившийся в стене почти у самого пола. в палату вошла и подошла ко мне светловолосая, с васильковыми глазами медсестра Маруся, которая была лишь немногим старше меня.
- Ты что, подменяешь кого-нибудь или на ночь к кому приставили? спросил я довольно равнодушно.
- Вроде того,-беспечно ответила Маруся и вдруг, раздевшись догола, легла рядом со мной в постель и накрылась одеялом. Поняв в чем дело, я зло сказал ей:
- Убирайся к черту! Не нужна мне твоя жалость,-и так как она не думала уходить, то даже обматерил ее.
В пионерском отряде, а потом в комсомольской ячейке меня учили, что жалость-это мещанское чувство, постыдное для того, кто жалеет, и особенно для тех, кого жалеют. И я верил в это. Я не знал тогда, что жалость, сострадание-самое великое чувство,
которое вложил в нас всевышний, и тот, кто полон этим чувством, более всего приближен к его престолу.
Недаром на Руси слова "любить" и "жалеть" почти синонимы и очень часто стоят рядом '.