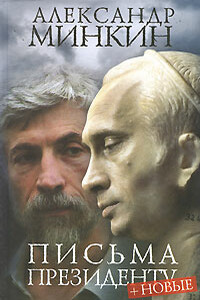Нежная душа | страница 47
В театре – пожалуйста! Кто угодно берется за Чехова, Пушкина, Шекспира. А ведь это авторы опасные. Ставя дрянной пустячок, так легко «добавить от себя» и даже на афише назваться соавтором или скромно пометить «сценический вариант театра». Но пьеса гения – это (продолжая сравнение) така-ая штанга!.. Всерьез за нее взяться – пупок развяжется. Гениальный автор наглядно выявляет пигмейство постановщика. Тут, как в сказке, три пути. Один – трудный – для талантов. Они годами готовятся к заветной пьесе, накапливая силу, выращивая актеров. Успех и тут не гарантирован, но он хотя бы возможен. А два пути – легких. Первый – жульнический: сил на штангу не имея, подменяют ее картонной бутафорией, вводят песенки, перепляс, грохочущую фонограмму, не без успеха отводя зрителям глаза от существа пьесы. Другой путь – простейший. Тут вообще не думают.
На авось. А давайте – «Лира», чем черт не шутит? – вдруг получится. Раз-два – взяли!
Позвольте уверить: каждую фразу этих заметок можно проиллюстрировать. В частности, разницу режиссерских подходов. Анатолий Васильев во МХАТе готовил «Короля Лира» три, кажется, года; работал с актерами, с художником… Умер Попов. И Васильев оставил постановку. Всесторонне обдуманный, выношенный образ спектакля у него, безусловно, был. Но другого Лира он не видел и не хотел. А Евгению Симонову ни с того, ни с сего предложили поставить «Отелло» в Ташкенте – в Театре имени Хамзы. Предложил актер, который не нашел в Узбекистане столь отважного среди режиссеров. Они видели его на сцене и не видели в нем Отелло. А Симонов в кабинетной беседе – узрел. И образ спектакля тут же родился. И поставил за шесть налетов, за двадцать восемь «точек», растянувшихся на четыре месяца, наскоками по четыре-пять репетиций… О расходах не говорю. О результате – тоже. Он, естественно, печален.
В последнем случае, как правило, возникает «актерский» спектакль. В том смысле, что все играют кто во что горазд: рычат и таращат глаза, рвут страсть в клочья, комикуют, корча рожи, картавя, заикаясь, падая, издают неприличные звуки, делают непристойные жесты (а как же? – Шекспир!), несут отсебятину, возможно, искренне полагая, что этим продолжают вахтанговскую турандотовскую традицию. И на сцене действительно возникает турандо-тизм. И чаще всего отурандочивают почему-то «Виндзорских насмешниц».
Вряд ли стоит думать, что кривлянье и унылое дурачество рассмешит публику сегодня. Вряд ли стоит выдавать подобное за некий «шекспировский стиль» и уверять, что якобы таким манером смешили зрителей в «Глобусе». Публика «Глобуса», боюсь, не уступила бы сегодняшней. Текст Шекспира, изобилующий пышными сравнениями, изощренными каламбурами, именами эллинских богов и героев, замысловатыми клятвами, – все понималось сразу и без буклетов. И в политике внутренней и внешней разбирались прекрасно – иначе не писал бы Шекспир такого количества политических пьес.