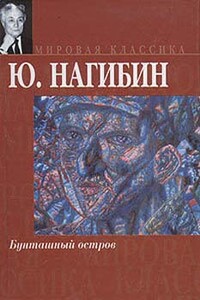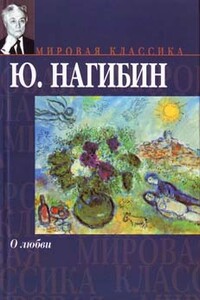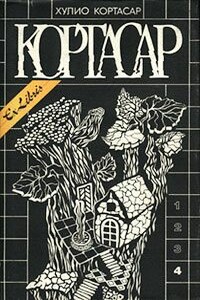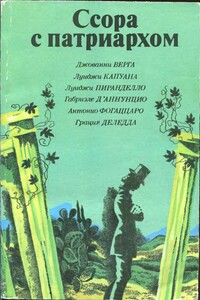Книга Мануэля | страница 14
Речь идет об институте судебной медицины, в просторечии – о морге, об утопленниках, Лонштейн в эту ночь разошелся, это он-то, который никогда не говорит о своей работе, но Маркос, окутанный сигаретным дымом, медленно покачивается в кресле-качалке Людмилы, время от времени запускает пятерню в свою курчавую шевелюру, отбрасывает назад со лба вихор и неспешно выпускает дым из ноздрей. Андрес у Маркоса ни о чем не спросил, словно вваливаться с Лонштейном за полночь в его квартиру дело вполне естественное, и Маркосу даже нравится эта чуть отчужденная позиция Андреса, какое-то время он еще выжидает, а Лонштейн все толкует о самоубийцах да о своем рабочем расписании, совершенно разошелся, несмотря на инструктаж на протяжении восьми станций метро и за двумя рюмками водки в чашке кофе. Сам Андрес вроде понимает, что тут что-то не так, он слушает Лонштейна, но поглядывает на Маркоса, как бы спрашивая, какого черта и до каких пор, че.
– Заткни фонтан, ты, раввин-недоучка! – приказывает Маркос, забавляясь в душе. – Чистый Эдгар По для простонародья, придержи свои байки до визита к Патрисио, женщины будут тебя слушать с раскрытыми ртами, ты же знаешь, какие они некрофилки. Идея, понимаешь, была в том, старина, чтобы воспользоваться этим визитом для разговора о вещах чуть более живых, включить тебя и твою полечку в прохождение ускоренного курса латиноамериканской информации, от которой ты, я гляжу, немного отдалился. Этому талмудическому ослу было поручено сломать лед, но твоя взяла, гонг пробил, и мне уже обрыдли все эти хвастливые прелиминарии.
– Ну ладно, валяй, – говорю я ему покорно.
– Так вот, дело примерно вот в чем.
В конце концов я уразумел, что одним из главных поводов визита Маркоса было желание воспользоваться моим телефоном, так как своему он в эти дни не доверял. Мне бы спросить почему, но, если я не спрошу, Маркосу не придется мне врать, и, кроме того, у меня не было большой охоты вникать в дела Маркоса, во всяком случае, до визита к Патрисио, в чьем доме практически единственным резоном открыть рот были политика и прямое и непрямое действие. Маркос меня хорошо знал, его моя умышленная сдержанность не волновала; со мною и с Лонштейном отношения у него были как с бывшими соучениками (хотя мы таковыми не были), и других контактов не требовалось. С Людмилой он оживлялся, рассказывал последние новости, сообщал о более или менее невинных передрягах, в которые попадали он и Патрисио; время от времени он посматривал на меня из клубов табачного дыма, как бы интересуясь, о чем я думаю, почему не делаю хоть шажка навстречу, или же я нарочно отодвигаюсь чуть в сторону, чтобы затем выйти на орбиту. И пока он говорил по телефону с несметным числом мужчин и женщин на французском, испанском, а порой на каком-то загадочном коколиче (собеседника звали Паскуале, и говорил он из Генуи, в этом квартале счет за телефон будет жирный, не отпускать Маркоса, пока не рассчитается), Лонштейн и я беседовали, попивая белое вино и вспоминая «Семильон» в погребках Бахо. Бедняге Лонштейну на этой неделе повысили жалованье, и он сокрушался при мысли, что на всякое благо есть противовес и что работа его вконец замучит; такое несчастье сделало его необычайно словоохотливым. Маркосу приходилось ежеминутно на него шикать, чтобы не мешал слушать кого-то, кто говорил, видимо, из телефонной будки в Будапеште или в Уганде, тогда раввинчик слегка понижал голос и нес свое про утопленников, про ночное расписание в морге, про задохнувшихся, выбросившихся из окна, обгоревших; про изнасилованных девушек с предварительным (или последующим) удушением, то же про мальчиков, про самоубийства с помощью яда, выстрела в голову, газовой горелки, снотворного, про заколовшихся ножом, погибших при авариях (автомашины, поезда, военные учения, фейерверки, строительные леса) и last but yes least