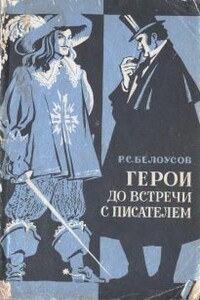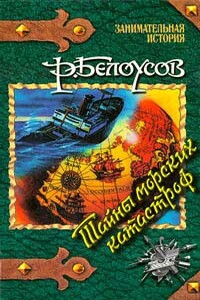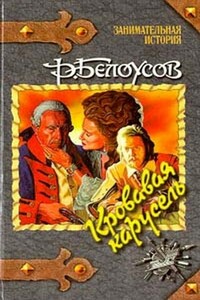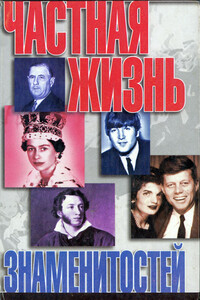Тайна Иппокрены | страница 78
Томас Манн
Все в доме были удивлены. Такого еще не бывало, чтобы Гете переписывал им самим сочиненное. Во всяком случае последние четверть века престарелый поэт обычно диктовал, расхаживая по рабочей комнате, которую называл «своей кельей». И хотя в ней стоит письменный стол в стиле Людовика XVI и высокий старый пятиножный стул с подставкой для головы, а на столе, как положено, чернильница с пером, песочница и подушечка для локтя, — все, что родилось в этой комнате веймарского дома, все бессмертные шедевры были впервые начертаны на бумаге рукой его секретаря. Причем даже личные письма и лирические стихи записывались под диктовку, из чего иные делали вывод, что Гете трудно быть в них вполне откровенным. Эта неприязнь, или, как он сам говорил, отвращение к чернилам и бумаге, с годами возрастала, процесс писания все больше тяготил его. И, видимо, не случайно Эгмонт по воле автора признается: «всего несносней мне писанье». Когда же, едва ли не однажды, в молодости, по настоянию сестры, Гете собственноручно принялся за рукопись «Геца фон Берлихингера», страницы ее были заполнены четким, опрятным бисером слов и, что удивительно, — без единой помарки.
И вот снова, чуть ли не полвека спустя, Гете сидит за столом и сам переписывает текст недавно созданной элегии. Он пишет красивым каллиграфическим почерком, тщательно и аккуратно. Затем сшивает рукопись и самолично переплетает ее, так как считает, что переплет то же, что рама для картины: так виднее, являет ли она собою законченное целое. Никто пока еще не знает, чем был занят эти три дня поэт, ибо Гете хранит до поры написанное, «как святыню». Однако постепенно его охватывает желание обнародовать свое творение, услышать его в устах других. Чем объяснить такую перемену? Вначале нежелание, а может быть, опасение доверить стихи посторонним, потом, словно спохватившись, он решает сделать их достоянием в первую очередь близких и друзей. И тогда становится ясно, какое значение имеют эти стихи для автора, обычно столь сдержанного в своей любовной лирике. «Мариенбадская элегия» — так назовет он это свое стихотворение — горестное, нет, трагическое признание о посетившей старца последней любви к пленительной девятнадцатилетней Ульрике фон Левецов, о мелькнувшей было надежде на счастье семидесятичетырехлетнего поэта и о безжалостном крушении иллюзий. Как мучительный стон, вырываются из его груди строки: