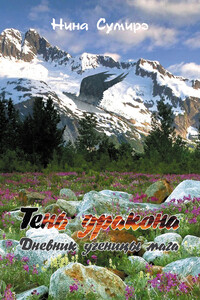День Святого Никогда | страница 65
Лестница была пуста, и это было прекрасно. Всего десять минут назад, во время массового исхода студентов, Феликса непременно толкнул бы под локоть какой-нибудь бесцеремонный торопыга, утративший не только благоговейный трепет, но и элементарное уважение к благородной профессии героя — подобная метаморфоза происходила со многими студентами как раз к концу первого семестра, когда они решали раз и навсегда поставить крест на своей детской мечте о борьбе со Злом, и забросить нудную и бесполезную учебу, подыскав себе другое, более взрослое занятие. После зимних каникул первый курс редел практически вдвое, и Феликс обычно терпеливо сносил дерзости от разочаровавшихся юнцов, но сегодня, после трех контрольных работ, которые еще только предстояло проверить, его миролюбие могло и не перенести дополнительной проверки…
Да, лестница была пуста и безмолвна. Но не успел Феликс обрадоваться возможности остаться, пусть ненадолго, наедине с тишиной и своими мыслями, как где-то на третьем этаже скрипнула дверь и раздались голоса, причем голоса громкие, насыщенные эмоциями и смутно знакомые. Феликс замедлил шаг и прислушался.
Первый голос он узнал сразу, да и мудрено было бы его не узнать — ведь это был голос Сигизмунда, причем с той слегка высокомерной и надменной интонацией, которой старик не пользовался уже лет двадцать, с тех самых пор, как оставил преподавание и посвятил себя административной работе. Слов было не разобрать, но если уж Сигизмунд снова прибег к надменно-холодному тону, то это означало, что он в высшей степени разгневан. Феликс поежился, припомнив далекие годы своего ученичества и неповторимые разносы от старого педанта, и посочувствовал его теперешним собеседникам, заодно попробовав угадать, кто же эти несчастные жертвы, и почему их голоса тоже звучат очень знакомо?
Жертвы избавили его от необходимости напрягать память, появившись на лестнице собственной персоной. Первым страдальцем оказался господин префект жандармерии, одетый в парадный мундир с аксельбантами, эполетами и прочей мишурой; а вторым был глава Цеха механиков в угольно-черной мантии, на которой посверкивали маленькие золотые пуговки-шестеренки — эмблема Цеха. И надобно заметить, что вид у обоих был самый что ни на есть жалкий, несмотря на всю торжественность их убранств.
Грубое и пористое, как пемза, лицо господина префекта, обрамленное густыми курчавыми бакенбардами, в данный момент исходило багровыми пятнами, которые медленно расползались от картофелеобразного носа на вислые бульдожьи щеки и приземистый лоб; господин же главный механик, напротив, был крайне бледен, и цветом кожи напоминал вяленую рыбу. Маленький, скошенный подбородок цеховика предательски дрожал, а глазки растерянно помаргивали, и из этого можно было сделать вывод, что за минувшие двадцать лет Сигизмунд не только не утратил, но и довел до совершенства свое умение повергать людей в трепет силой одного своего слова.