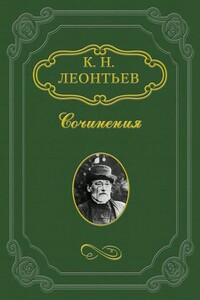Византизм и славянство | страница 77
В некоторых случаях прошедшее служит примером и объяснением настоящему; в других настоящее своей ясностью и резкостью раскрывает нам глаза на что-либо более смутное и темное в прошедшем.
Сущность явления та же; сила, выразительность его могла быть разная, при разных условиях времени и места.
Припомним кратко, как кончали свою жизнь различные государства древности. Отдельное Афинское государство было погублено демагогами. Это до того уже известно, что ученику гимназии, который не знал бы о роли Клеона, о консервативном или реакционном духе комедии Аристофана, о напрасных попытках спартанцев, Крития, 30 тиранов, Пизандра и др. восстановить аристократическое правление в анархическом городе, такому Ученику поставили бы на испытании единицу.
Устройство Афин, уже со времен Солона не слишком аристократическое, после Перикла приняло вполне эгалитарный и либеральный характер. Что касается до Спарты, она шла другим путем, была беднее и крепче духом, но и с ней случилось под конец то же, что с нынешней Пруссией: государство бедное, более суровое и более аристократическое победило другое государство более торговое, более богатое и более демократическое, но немедленно же заразилось всеми его недостатками.
Спарта под конец своего существования изменила только одну существенную черту своего быта: она освободилась от стеснительной формы своего аристократического сословного коммунизма, по которому все члены неравных горизонтальных слоев были внутри этих слоев равны между собою.
В ней стало больше политического равенства, но меньше экономического. Около 400–350 гг. до Р. X. общественные имущества были объявлены частными (как и в других местах), и всякий стал волен располагать ими, как хотел, всякий получил равное право богатеть и беднеть по воле.
Организация Спарты, дорийская форма, испортилась и стала приближаться постепенно к тому общему среднему типу, к которому стремилась тогда Эллада бессознательно. Реакция царей Агиса и Клеомена в пользу Ликурговых законов так же мало удалась, как и реакция афинских олигархов.
Что касается до общей истории эллинского падения, то самое лучшее привести здесь несколько слов из руководства Ве-бера. Для таких широких вопросов хорошие учебники самая верная опора. В них обыкновенно допускается лишь то, что признано всеми, всей наукой:
«Мы видели, — говорит Вебер, — что греческий гений уничтожил и разбил мало-помалу строгие формы и узкие пределы восточной (я бы сказал не восточной, а просто первоначальной) организации, распространил личную свободу и равенство прав для всех граждан до крайних пределов и, наконец, в своей борьбе против всякого ограничения личной свободы, чем бы то ни было, традициями и нравами, законом или условиями, потерялся во всеобщей нестройности и непрочности». Далее я не выписываю (см. «Всеобщая история» Вебера, заключение греческого мира, последние страницы).