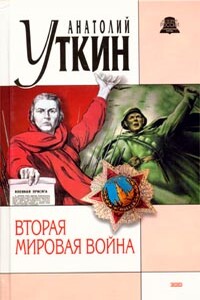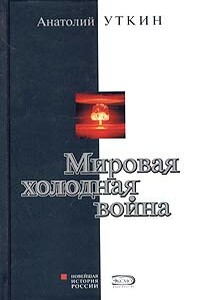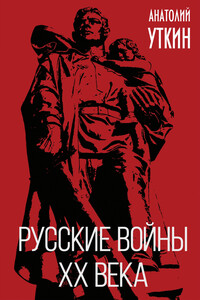Вызов Запада и ответ России | страница 93
Человеком, который отбросил все сомнения относительно единого пути России и Запада, стал родоначальник русского марксизма Г. Плеханов. Уже в 1884 году он пришел к убеждению, что России никак не избежать капиталистического развития, а следовательно, она в одной лодке с Западом. Думать иначе — просто наивно. С огромным талантом Плеханов доказывал восприимчивой русской публике, что рассуждения об особом пути России — романтические бредни. Эти идеи упали на благоприятную почву. Действительно, окружающее говорило об огромных переменах. Материальный рост России в 90-х годах был несомненен, время убежденности в «особом» — народническом пути уплывало, уступая дорогу железной поступи капитализма. Против реальности, умно и проницательно объясняемой, было трудно возразить. Возникло особое течение русских западников — тех, кто считал, что хватит сравнивать Россию с Западом: всемирно-исторический процесс пошел так, что в единстве колеи развития уже нет сомнений. Россия становится частью мирового рынка, она стремительно входит в мир индустрии и торговли, требующих от русского населения несомненных западных качеств. Все решается само собой. И вопрос только в сроках, когда Россия вольется в западный капитализм. Не войти в него она уже не может, даже если бы того захотела — таков объективный закон истории.
Наиболее талантливым учеником Плеханова стал Ленин.
Атмосфера начала ХХ века, с одной стороны, говорила об идейной победе прозападного курса в России. Искусство «серебряного века» отличалось своей мировой обращенностью. Меценаты покупали французских импрессионистов не как диковинные фантазии декадентского Запада, а как родственное движение мысли и чувства европейских соседей. У русских (возможно, впервые) возникает психология органического роста с Западом. И как было не предаться иллюзии, если весь Париж рукоплескал русским балетным сезонам, Фаберже творил для всей Европы, русские футуристы были уверены, что они возглавляют не национальный, а мировой процесс. В журнале «Мир искусства» не было ничего провинциального, это был журнал мировой эстетики.
С другой стороны, в начале двадцатого века стало очевидно, что своеобразие России, ее цивилизации сказалось более всего в ее культуре. Нетрудно прийти к обобщению, что «серебряный век» русской культуры был высшей точкой раскрытия своеобразия восточнославянской цивилизации. Интенсивность культурной жизни была чрезвычайной. Как писал А. Блок в 1910 году, «в промежутке от смерти Вл. Соловьева до сего дня мы пережили то, что другим удается пережить в сто лет». Вл. Соловьев писал в 1907 году: «Никогда, быть может, мы не прислушивались с такой жадностью к отголоскам эллинского миропостижения и мировосприятия». В статье «О веселом умении и умном веселии» Вл. Соловьев характеризует происходящее в русской культуре канунного периода как русский ренессанс. Поляк Ф.Ф. Зелинский в предисловии к изданию своих лекций «Древний мир и мы» (1905 г.) прямо пишет о занимающейся заре славянского Возрождения, следующего, по его мнению, за итальянским Ренессансом и германским Возрождением XVIII века. Энтузиасты этого славяно-русского Возрождения создали «Союз Третьего Возрождения». (Несмотря на начинающийся потоп, философ А. Топорков успел издать в 1915 году трактат под названием «Идея Славянского Возрождения»). На фоне великой литературы, растущего образования, мирового признания русской науки и таких явлений, как дягилевские сезоны в Париже, в русский Ренессанс можно было поверить.