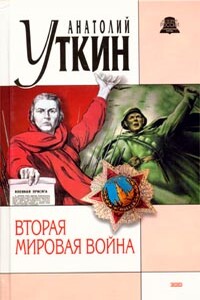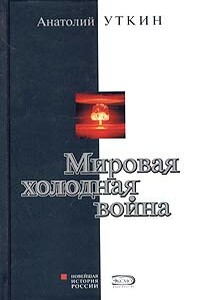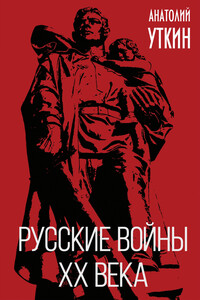Вызов Запада и ответ России | страница 88
Своей жесткой позицией легальные марксисты обострили спор, на Запад ли, к западному ли капитализму идет Россия или сохраняет исконную приверженность общине и коллективизму (как утверждали народники и социал-революционеры). В журналах «Новое слово» (1894–1897 гг.), «Начало» (1899 г.), «Жизнь» (1897–1901 гг.), «Заря» (1900–1901 гг.), «Современное обозрение» (1901 г.), «Освобождение» (1902 г.) российский читатель вовлекался в спор по главному вопросу истории своей страны — об отношении к Западу.
Самонадеянность можно отнести к прискорбным чертам российского менталитета, чрезвычайно трудно изживаемым. Ощущение принадлежности к Западу, который уже полтысячи лет непобедим на мировой арене, в начале двадцатого века не вызывало реалистических сомнений ни у царя, ни у министров, ни у генерального штаба русской армии. Вскормленные славой побед над турками, министры и генералы с большой легкостью забыли о крымской катастрофе и уж никак не видели ровню себе в удивительном островном государстве, бросившем вызов России на Тихом океане. Верящие в свою миссию хозяев Дальнего Востока, творцы русской политики не удосужились проанализировать опыт активного освоения западной науки и технологии — путь Японии после революции Мэйдзи, не оценили должным образом эффективность японцев в ходе их побед над Китаем (1895). (Ради исторической корректности признаем, что недооценку Японии допустил и весь западный мир, гораздо более рациональный и ответственный — но ведь Запад еще не собирался тогда на битву с Японией, как с будущим лидером незападного мира). Легкость завоевания феодальной Средней Азии, немощь Китая сыграли с русским государственным аппаратом злую шутку, потрафили пресловутому национальному «авось».
Фактом является, что к трагическому и жесткому делу войны Россия пришла с той легкостью, которую проявлял Запад в своих отношениях с азиатским, африканским и латиноамериканским миром на протяжении многих столетий в ходе беспроигрышных кампаний. Ее правящий класс в начале ХХ века практически перестал спорить о принадлежности страны к Западу. Указание на социокультурные особенности России в сопоставлении с Западом, стало восприниматься элитой страны едва ли не как проявление расизма: это, мол, равно утверждению этнической неспособности славян к прогрессу. Возможно, делу искажения реального соотношения сил послужило восприятие России не-Западом интегральной частью западного мира. Если для немца и даже поляка Россия была очевидным не-Западом, то для перса, монгола и китайца она была очевидным Западом. И русские генералы (как же, победители Наполеона) сами поверили в свою западную элитарность, способность к скоростной рекогносцировке, реалистическому планированию, быстрой мобилизации сил. Поражение России в войне с Японией, по словам П.Б. Струве, «пробило самые тупые головы и окаменелые сердца» — отставание России от Запада стало очевидным. В конечном счете, только дипломатия России, в лице неподражаемого Витте, оказалась на высоте западных стандартов. Он с западной эффективностью провел мирные переговоры в Портсмуте и это в значительной мере спасло Россию от судьбы тихоокеанского отверженного.