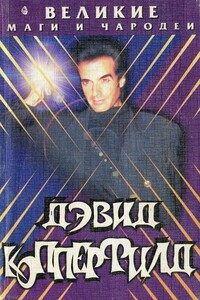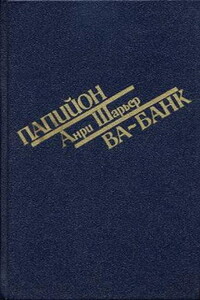В поисках советского золота | страница 12
Какой уж сон после такого инцидента, и когда мы разглядывали утром польские равнины, все еще покрытые снегом, хотя стоял апрель, настроение тоже не поднялось.
Снаружи было очень холодно, в поезде топили плохо. Условия не улучшились, когда мы пересекли восточную польскую границу и пересели в русский поезд. Местность такая же равнинная и неинтересная, в поезде еще холоднее.
Я поискал Серебровского, когда русский поезд отъехал от пограничной станции, и поначалу не нашел, но в конце концов обнаружил в вагоне-ресторане. У него на лице было счастливое выражение, какого я раньше не видел, а перед ним — горка ломтей черного хлеба и два стакана чая. Он пригласил меня попробовать, уверяя, что такого хлеба не найдется больше нигде, кроме как в России. Я попробовал и решил, что никто, кроме русских, есть его и не захочет. Позже, однако, я тоже полюбил русский черный хлеб, и ощущал его нехватку, когда покинул Россию.
Наша маленькая семья была не в лучшем расположении духа, въезжая в Москву. После польских и российских ландшафтов и поездов мы почувствовали, что, может быть, совершили ошибку, согласившись провести два года в такой обстановке. А Москва встретила нас прохладно. Несколько друзей, закутанных в меха до самых глаз, ждали Серебровского на вокзале, и последовали долгие объятия и приветствия. В возбуждении от встречи, Серебровский забыл о нашем существовании и вышел с длинного перрона, окруженный друзьями. Мы наконец отыскали носильщиков и собрали багаж, и выходя, только успели увидеть Серебровского, отъезжающего на длинном лимузине.
Тогда я плохо представлял себе российские условия, и еще не забеспокоился. Но мы не ожидали такой погоды; девочки были одеты в легкие платья и короткие носки, а вокзал не отапливался. Я сказал им подождать минутку, пока найду такси, не представляя себе, что такси в 1928 году в Москве практически отсутствовали. Собственно, в тот момент я начал охоту за транспортными средствами, чтобы попасть куда-нибудь, которая так и не окончилась за десять лет, пока я не сел в Москве на поезд, увозящий меня из России навсегда летом 1937 года.
Несколько одноконных саней стояли вблизи вокзала, извозчиков почти не было видно за шубами. Я не знал ни слова по-русски, а они не знали ни слова на других языках, и не проявляли никакого любопытства к тому, что я пытался им сказать. Я бегал вокруг вокзала добрых два часа, с каждой минутой становясь все злее, пока жена и дочки мерзли внутри вокзального помещения. Наконец, откуда-то возник невысокий человек с надписью «Гид» на кепке, говорящий по-английски. Вскоре на двух русских санях мы ехали в гостиницу, в которой оставались весь следующий месяц, проведенный в Москве.