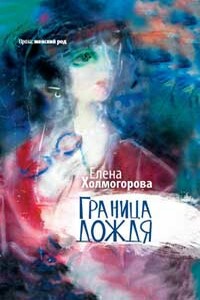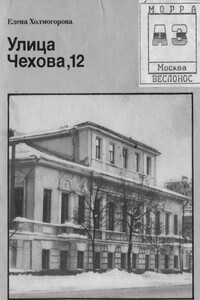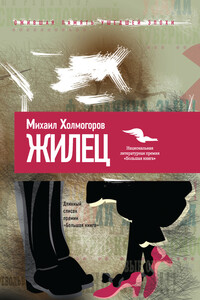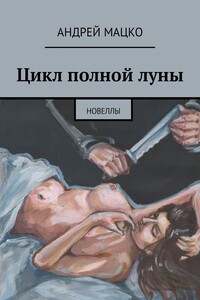Второстепенная суть вещей | страница 27
А за два дня до восстания подпоручик Яков Иванович Ростовцев лично вручил Николаю письмо о «таящемся возмущении». На следующий день копию письма Ростовцев принес Рылееву. Казалось бы, загадка: для чего принес? Но это загадка для нас. Рылеев же сказал: «Ростовцев не виноват, что различного с нами образа мыслей… Он действовал по долгу совести, жертвовал жизнию, идя к великому князю, вновь жертвует жизнию, придя к нам…»
А нас-то приучили к тому, что всему можно дать однозначную оценку. Мы привыкли к молотком вбитым формулировкам, набранным в учебниках истории жирным шрифтом и предназначенным для заучивания наизусть, как, скажем, закон всемирного тяготения. Конечно, грыз червь сомнения: что же, прошлое – двуликий Янус? Ведь так называемые буржуазные историки сплошь и рядом трактовали события совершенно иначе. Но мы были вооружены универсальной методологией – марксизмом-ленинизмом, – она утверждала истину в последней инстанции и выражала ее в стиле начальственных категоричных резолюций.
Напрашивается каверзный вопрос: а есть ли вообще историческая правда? По неписаным канонам, в любом научном труде, статье ли, диссертации, непременно должны присутствовать выводы, итоги. И закрадывается еще более крамольная мысль: перестанет ли история быть наукой, если отныне ставить их наличие или отсутствие в зависимость от конкретно изучаемых фактов и явлений?
А пока что не станем ни отменять, ни насаждать никаких «подходов». Оставим место сомнению. И поймем: история – не Янус, но сфинкс, великая загадка. И примиримся с тем, что загадкой для потомков будем и мы.
Е. Холмогорова…ЧТОБЫ ПЛЫТЬ В ЭВОЛЮЦИЮ ДАЛЬШЕ
«…радость здесь – привилегия. Поэтому она, по моим наблюдениям, почти всегда преувеличена, наигранна, неестественна и производит куда более тяжкое впечатление, чем печаль. В России смеются только комедианты, льстецы или пьяницы».
Маркиз де Кюстин
В Москве, в храме бывшего Симонова монастыря, в свое время оказавшегося на территории электромашиностроительного завода «Динамо» и знаменитого могилами героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби, а также тем, что в его пруду утопилась карамзинская «бедная Лиза», был впервые совершен молебен для глухонемых. Отец Павел три года изучал язык мимики и жеста и даже придумал новые обозначения для ряда слов, например, для слова «искушение», которого в языке глухонемых прежде не было.
А всегда ли нам хватает слов в нашем «великом и могучем»? Все ли значения мы знаем? И как они с течением времени меняются? Иосиф Бродский в послесловии к «Котловану» заметил: «…Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее – о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость».