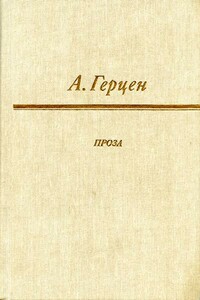Тоска | страница 27
– подхватила Таня, и голос её звучал только как равнодушное эхо чужой скорби.
«Поищу там доли…»
Голоса слились и дружной, тёплой струёй ровно потекли по комнате, пропитанной запахом водки, табаку и пота, вдруг задрожали, забились, зарыдали, точно им стало тесно и тошно тут. Потом голос Кости оборвался и умолк, а Таня продолжала:
«Матушка-пустыня-а…»
– «Матушка-пустыня!» – снова вступил Костя тоскливым криком, – «Приюти сиротку-у…»
– «Приюти сиротку», – вступил третий, новый голос. Он слился с голосом Кости и, звуча в унисон ему, гибкий, тоже дрожащий, являясь как бы эхом, тенью основного звука, заплакал и застонал, выпевая только одни гласные. Это пел безрукий, закрыв глаза и выгнув свой кадык.
Контральто Тани звучало – низкое, ровное, густое, и оно стало чем-то вроде широкой полосы бархата, извивавшейся в пространстве, а на нём, на этом бархате, в фантастических узорах дрожали золотые и серебряные нити голосов безрукого и Кости.
Публика была подавлена этим рассказом сироты о поисках своей доли. Тихон Павлович давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нём его тоску, но теперь к ней примешивалось ощущение едко-сладкое, приятно коловшее сердце. Он чувствовал себя так, как будто его обливало что-то тёплое и густое, как парное молоко, обливало и, проникая внутрь его существа, наполняло собой все жилы, очищало кровь, тревожило его тоску и, развивая её и увеличивая, всё более смягчало. В душе мельника выросла странная сладкая боль, точно льдина тоски, давившая его сердце, таяла, распадалась на куски, и они кололи его там, внутри.
Аннушка положила на плечо соседа свою голову и замерла в этой позе, потупив глаза в землю. Гармонист задумчиво покручивал ус, а человек в пиджаке отошёл к окну и стал там, прислонясь к стене и смешно вытянув голову по направлению к певцам, точно он ртом ловил звуки песни. Толпа в дверях шуршала платьем и глухо ворчала, слившись в одно большое животное.
Трое певцов пели, сами себя очаровав песней, и она звучала, то мрачная и страстная, как молитва кающегося грешника, то печальная и кроткая, как плач больного ребёнка, то полная отчаянной и безнадёжной тоски, как всякая хорошая русская песня.
«Э я сижу-у-мо-оря-а…»
– рыдал Костя, у которого от напряжения выступил пот на лбу и катился по щекам, как слёзы.
«Эо-а, э-оо-э-о-а!»
– вторил ему безрукий одними гласными. Он плотно зажмурил глаза, и ноздри его нервно дрожали, дрожали и губы и подбородок.