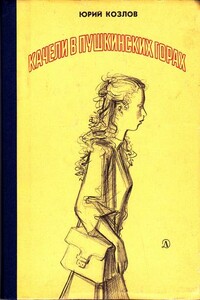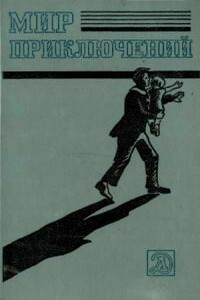Проситель | страница 120
— Чашу смертных, — ответил Рыбоконь, — зачем тогда Бог, если он не справляется со своими обязанностями?
— Но невинных смертных в мире нет. — Берендеев сейчас уже не помнил, возразил или не возразил он Нестору Рыбоконю. — Господь подстраховался посредством неизбывности первородного греха.
— Что ж, — ответил или не ответил ему Рыбоконь, — тем хуже для Господа.
Берендеев, впрочем, сомневался, что это так.
Дела Господа были вне категорий «лучше» и «хуже».
К примеру, для человечества не существовало ничего более нетерпимого и непереносимого, нежели истина. Во все века люди с ненавистью и предубеждением относились к пророкам, в лучшем случае не веря им, в худшем — побивая каменьями. Во все века люди с болезненным вниманием внимали всякой лжи и галиматье, беспрепятственно (в отличие от истины) впуская их в свою душу. Ну а ложь и галиматья, войдя в душу, превращались в повседневную жизнь.
Принцип отторжения истины, таким образом, был универсален и годился на все случаи жизни. Выходило, что самое истинное-переистинное переживание, то самое, приводящее человека к крушению (в случае писателя-фантаста Руслана Берендеева — его ненормальная любовь к жене), в то же время на неких высших весах представало наиболее ложным, то есть неистинным. Иначе зачем крушение? Стало быть, неистинными были попытки людей самостоятельно (в меру своих чувств) устроить жизнь, но истинным было их наказание за это. Сверхидея, следовательно, являлась ретрансляцией наказания с помощью одного на многих так сказать, истиной в геометрической прогрессии. Бог наказывал за гордыню избранных, отнимая у них самое дорогое в жизни (у Берендеева — Дарью), избранные же потом наказывали остальных (неизбранных), отнимая у них… что?
Все?
Пока Бог не отменял очередную сверхидею, полагая наказание достаточным, не возвращал человечество на круги своя.
Которые каждый раз последовательно сужались в диаметре, чтобы в конечном итоге предстать точкой, с которой сдвигаться будет некуда. Эта точка, полагал писатель-фантаст Руслан Берендеев, и будет конечной истиной. Вот только сколько рабов Божьих сможет на ней разместиться? Он не мог отделаться от ощущения, что Господь не намерен излишне перегружать последнюю в истории человечества точку.
…Вернувшись в смятенных чувствах из «Сет-банка», Берендеев повесил в шкаф дрянной, пахнущий смертной тоской мышино-шагреневый плащ, поставил на письменный стол под лампу крылатого золотого осла. Осел вулканически рубиново — заблистал в ее свете. Земная твердь под его копытами определенно начала прогибаться. Берендеев смотрел на осла неотрывно, и спустя некоторое время ему показалось, что земная твердь под копытами ублюдка уподобилась доске на роликах, сам же осел, как это принято у скейтбордистов, присел на земной тверди-доске на полусогнутых в преддверии суперлихого виража.