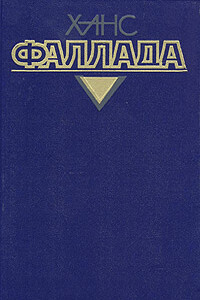Каждый умирает в одиночку | страница 37
— Молодого человека за это винить нельзя, — говорит она. — Они все перед дамами фасон держат, все такие. Потом поумнеет, вернется к матери, которая его своей грудью выкормила.
Он смотрит на нее и мнется, сказать или нет? Он вообще не злопамятен, но уж очень она его на этот раз обидела, во-первых, не дала поесть, во-вторых, тут же при нем убрала в каморку все хорошие вещи. И он решается.
А я бы твоего Карлемана на порог родительского дома не пустил, раз он таким мерзавцем стал! — Он смотрит ей в глаза, округлившиеся от страха, он без жалости бросает ей в лицо: — Когда он последний раз был в отпуску, он мне свое фото показывал, такой же эсэсовец его снимал. Карлеман еще хвастал этим снимком. На нем изображен твой сынок, он держит за ножки еврейского ребенка, так лет трех и собирается размозжить ему головку о радиатор грузовика…
— Нет, нет! — кричит она. — Ты лжешь! Это ты из мести выдумал, за то, что я тебя не накормила! Такого ужаса Карлеман не сделает!
— То есть как это выдумал? — спрашивает он без прежнего задора, он немного облегчил душу нанесенным ударом. — Да у меня на такие выдумки и ума не хватит. Впрочем, если мне не веришь, сходи в пивную к Зенфтенбергу. Он там всем снимок показывал. И сам Зенфтенберг и его старуха тоже видели…
Он замолкает. Говорить теперь с этой женщиной бесполезно. Она сидит, уронив голову на стол, и ревет. Поделом ей, кроме всего прочего она почтовая служащая, значит, тоже нацистка и, значит, отвечает за фюрера и за все его дела. Нечего ей тогда удивляться, что Карлеман такой.
Энно в раздумье поглядывает на диван — ни одеяла, ни подушек. Приятная перспектива на ночь, А что если рискнуть? Момент как раз подходящий! Он в раздумье поглядывает на запертую дверь в каморку и наконец решается. Он попросту лезет в карман к горько рыдающей жене и достает ключ. Затем открывает дверь и без всякого стеснения принимается шарить в каморке, — не беда, если даже она и услышит.
Эва Клуге, загнанная, переутомленная, слышит все, она знает, что он обкрадывает ее, но теперь ей безразлично. Да, ее мир рухнул, ее мир никогда больше не восстановится. И зачем живешь на свете, зачем рожаешь детей, зачем радуешься их смеху, их играм, если они вырастают извергами. Ах, Карлеман, Карлеман — какой хорошенький мальчик был, светловолосенький! Как от тогда в цирке Буша бедных лошадок жалел, когда они легли все в ряд на арене, спрашивал — они заболели? Пришлось его успокоить, сказать, что лошадки просто спать легли.