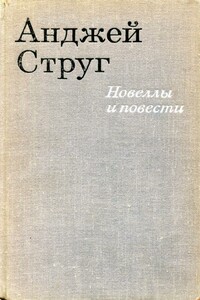Времена года | страница 78
Но я все равно – все равно! – вслушиваюсь, не раздадутся ли шаги около дома, и предательница-женщина все тоскует и тоскует во мне отнюдь не потому, что настроена на высокий поэтический лад. Но об этом нечего и думать. Как бы громко ни протестовала женщина, я поглощена только одним – заботой о молодом существе. Это настолько трудно, почти непереносимо трудно, что иногда мне кажется, будто я раскалываюсь надвое и навсегда.
Я все еще не могу отделаться от этих мыслей, когда добираюсь до ступенек заднего крыльца и присаживаюсь отдохнуть. У человека есть мечта: сказать что-то всему миру. Пройдет несколько дней, и он поймет, что она неосуществима. Не потому, что он лишен возможности выразить свои мысли и чувства. У него есть голос, язык, у него впереди вся жизнь. Беда в том, что он неспособен гореть. Ему удалось добиться немалых успехов в школе, но, насколько я понимаю, он обязан этим только горению директора. Что он сделает, когда прозреет? Придет сюда, потому что я – его последнее прибежище? Придет и пожрет меня, всю без остатка, чтобы продлить свою жизнь. Где выход из этого положения? Должен же быть какой-то выход. Что, если он женится на молоденькой девушке или не женится... какая разница?.. и у него родится ребенок? Успокоится он на этом? Мысли бегут, бегут... Может быть, это отсрочит крушение, которое неминуемо произойдет, когда он наконец убедится, что ничего не скажет миру. А что, если директор, старший инспектор и я, что, если мы... нет. Мы не сделаем из пего настоящего учителя, потому что это вопрос горения, горения его собственной души. И сострадания, которого он лишен. Довольно! Я слишком устала, чтобы обдумать сейчас все до конца... Пора оборвать коробочки у дельфиниумов, а то они не зацветут во второй раз.
Весна готовится отдать все свои богатства лету: вяз под окном учительской, грецкий орех возле сборного домика и тополя на берегу реки зеленеют уже вовсю, а к нам явился с первым визитом новый старший инспектор начальных школ мистер У. У. Дж. Аберкромби. Такой же элегантный, как его имя, и такой же огромный, как его кабинет: строгий серый костюм, седые волосы тщательно причесаны, над суровой верхней губой седые усы, – и наш голый коридор со щербатым полом, особенно неуютный из-за разбросанных повсюду плотницких инструментов, на этот раз будто действительно стыдится самого себя. Массивный мистер Аберкромби в костюме без пятнышка просто не умещается в коридоре, где мы собираемся во время первой большой перемены, и, когда он садится, вернее, пытается сесть на несуразную низенькую скамейку, ему никак не удается сладить со своими длинными ногами. Поль спотыкается о его ноги, я спотыкаюсь о его ноги, директор выносит для меня кресло из своего кабинета, спотыкается о его ноги и падает вместе с креслом, и мы приходим к заключению, что мистер Аберкромби уже получил представление о наших условиях, желание директора тем самым исполнилось, и нам незачем складывать в таз забытые башмаки и предлагать мистеру Аберкромби помыть в нем руки. Мы изо всех сил пытаемся сделать вид, будто сидим в шикарной гостиной первоклассного отеля. Директор осторожно откашливается, Поль выпроваживает детей, а я забываю об уговоре с вязом, о намерении пробиться сквозь стену старших инспекторов и, разливая чай, старательно изображаю первую даму этой школы; ради Поля я даже не кладу ногу на ногу.