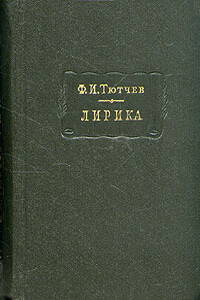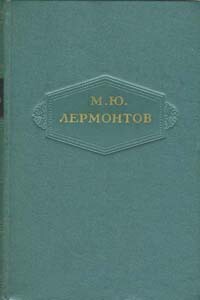Том 1. Стихотворения, 1813-1849 | страница 167
Автограф — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 3 об.
Первая публикация — РА. 1879. Вып. 5. С. 129, тогда же — ННС. С. 25–26. Затем — Изд. СПб., 1886. С. 52–53; Изд. 1900. С. 77–78.
Печатается по автографу. См. «Другие редакции и варианты». С. 243.
Автограф свидетельствует о том, что «Листья» входят в своеобразный «цикл» дорожных стихотворений (см. коммент. к «Через ливонские я проезжал поля...». С. 390) и помечены автором цифрой «4». Особенность тютчевской пунктуации — повтор тире, им заканчиваются строки: 4, 8, 14, 19, 22-я; повтор восклицательного знака. Интонационный рисунок призван передать порыв, взлет, его протяженность, эмоциональную приподнятость.
Публикации отличаются чтением 19-й строки. В первых четырех изданиях и Изд. Маркса — «Луга побледнели»; в других — «Лучи побледнели» (как в автографе). Слово в автографе закрепляет общую тенденцию картины — изображение высших сфер: древесных листьев, ветров, лучей, птиц, а не жизни на земле (исключение — «Цветы отцвели»). При переиздании, как правило, не сохраняют тютчевских тире.
Датируется 1830 г., как и все другие «дорожного цикла», на основании пометы в автографе.
С.Л. Франк предложил философско-эстетическое истолкование стихотворения: «Поразительно стихотворение «Листья», в котором выявлено как бы единство настроения, объемлющего весну и осень: все цветущее и блестящее есть «легкое племя», и с той же беспечностью, радостью, легкостью, с какою оно весною играет с лучами и купается в росе, оно осенью рвется «с докучных ветвей» и жаждет улететь от земли; в этой отрешенности увядающего от земли обнаруживается именно его жизненность, в противоположность неумирающей, тощей, прикрепленной к одному месту безжизненной зелени сосен и елей. Это сближение осени с весной, перенесение на первую «небесных» черт последней, есть, однако, как бы лишь переход к прославлению подлинной, высшей красоты осени» (