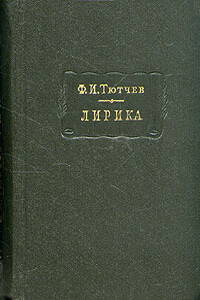Том 1. Стихотворения, 1813-1849 | страница 137
и близок Фаусту не просто неким «сродством неодолимым», как у Тютчева, а своей необычайной деятельностной активностью. И вообще мотив восхищения деятельным, активным началом мирозданья, ясный и громкий в оригинале, у Тютчева звучит приглушенно.
В какой-то степени это можно сказать и о переводе других образно-философских высказываний в оригинале. Вот первый отрывок:
В подстрочном переводе звучит так:
Речь идет о причинно-следственных взаимосвязях в природе. У Тютчева же «бури... цепь таинственную вьют» — романтическая многозначительность.
Что касается стилистического аспекта перевода, то здесь можно отметить то, что мы наблюдаем и в других переводах Тютчева — стремление к высокому стилю, даже с помощью архаизмов. Особенно это заметно в тех случаях, когда для архаичного или возвышенного языкового средства была совершенно очевидная альтернатива в виде простого (нейтрального) слова. Так, в начале второго отрывка у Тютчева мы находим:
У Гёте стоит слово «nun», которое соответствует столь же простому русскому слову «вот». Но Тютчев выбирает архаическое старославянское слово «днесь», которое усиливает торжественность, важность происходящего (Л.Л., М.М.).
(Из Шекспира)
Автограф — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 4–4 об.
Первая публикация — Молва. 1833. № 8, 19 января. С. 29–30. Затем — Совр. 1854. Т. XLV. С. 3–4; Изд. 1854. С. 114–115; Изд. 1868. С. 72–73; Изд. СПб., 1886. С. 410; Изд. 1900. С. 436–437.
Печатается по первой публикации. См. «Другие редакции и варианты». С. 239.
Автограф свидетельствует о значительной работе переводчика. Первоначально в 1-й строке вторым словом было «поэты» («Любовники, поэты и безумцы...»), оно приближено к слову «любовники», и его дальнейшая перестановка на конец строки вызвана скорее всего рифмой («поэты» — «слиты»), однако и образ влюбленного поэта не очень близок Тютчеву (ср. «Пускай любить он не умеет...» — «Не верь, не верь поэту, дева...»). Мотив безумия, сделавшись центральным в первой строке, стал главным во всем стихотворном отрывке. Работа над 10-й — 11-й строками сводится к выделению слова «создаст» (вместо «вызовет»), созидательная роль воображения оказывается главной идеей. В следующей строке автор заменил образ «поэта перст» на «поэта жезл», таким путем вырисовывая романтически-сказочный образ поэта-волшебника, наделенного чудодейственным жезлом. Последние две строки в отрывке имели вид: «Их претворяет в лица и дарит / Теням воздушным имя и жилище!» (стало: «Их претворяет в лица и дает / Теням воздушным местность и названье!..»). Смысл строк и образ поэта стали более точными: «дарить» что-либо «воздушным теням» как-то слишком невероятно, но «теням» «дает... названье» — более правдоподобно. Образы последней строки стали более обобщенными (вместо «имя и жилище» стало «местность и названье»), усилился широкий романтический смысл строки.