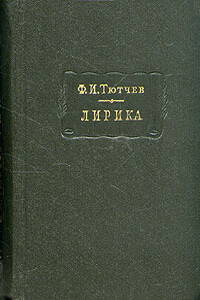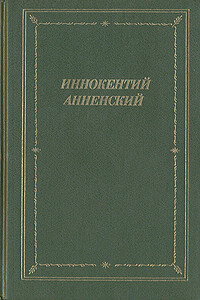Том 1. Стихотворения, 1813-1849 | страница 111
Первый автограф имеет другой вариант 3-й строки — «В лазури пламенной и чистой» авторские знаки проставлены: тире в конце 2-й и 6-й строк, многоточия в конце 4-й и 8-й, тире, как часто у Тютчева, ассоциированы с протяженностью действия.
Второй автограф тоже беловой, с иным вариантом: «И в тверди пламенной и чистой» (ср. «грунт небес» — «Через Ливонские я проезжал поля...»). Образ Пана (Сильвана) впервые появился в его поэзии в стих. «Послание Горация к Меценату...» (см. коммент. С. 281): «В священной рощице Сильвана, / Где мгла таинственна с прохладою слиянна... Здесь в знойные часы, пред рощею густою, / Спит стадо и пастух под сению прохлад...». Особенность авторского синтаксиса — повторы тире в конце строк 2, 4, 6-й.
Во всех изданиях — вариант второго автографа, но модернизируются авторские знаки: убраны тютчевские тире в конце строк.
Датируется не позднее конца 1820-х гг., т. к. бумага одного из автографов с водяным знаком «1827».
Н.А. Некрасов выделил стихотворение вместе с другими лирическими миниатюрами Тютчева — «Утро в горах», «Снежные горы», «Полдень», «Песок сыпучий по колени...» (Некрасов. С. 206). В рецензии на Изд. 1854 оно перепечатано и дан восхищенный отзыв о нем: «Красок немного, но как все они истинны, как верно подмечены у самой природы! Автору, очевидно, знакома тайна рисовать немногими, но подлинными чертами красоту ее явлений» (Отеч. зап. С. 62–63).
Рецензенту из Пантеона (с. 6) не нравилось выражение «мглистый полдень», и, по-видимому, в противовес ему, именно это выражение одобрил И.С. Аксаков (Биогр. С. 93–94), отметив художественную точность этого образа, как и «лениво дышит» и особенно «лениво тают».
Продолжение размышлений о тютчевском образе «полдень мглистый» — в статье С.Л. Франка. Изучая «дуалистический пантеизм» Тютчева, философ обнаруживает образы, в которых не противопоставляются светлое и темное начала бытия, а «сближаются между собою»: так, «полдень мглистый» изображается как час, когда «всю природу, как туман, дремота жаркая объемлет». Подобное Франк видит и в стих. «Снежные горы» — образ «мглы полуденной», в которой почил «дольний мир». И дальше, развивая свою мысль, замечает, как в стихах Тютчева «ночь» и «день» иногда как бы вдруг меняются, в символическом смысле, своими местами...» (Франк. С. 22). Так Франк указал на одно из звеньев тютческого поэтического видения мирового всеединства. В.Я. Брюсов (Изд. Маркса. С. XXXVII–XXXVIII), характеризуя пантеизм Тютчева, обращается и к стих. «Полдень»: «В другую минуту, «лениво дышащим полднем», Тютчеву сказывается и самое имя того божества, которому действительно служит его поэзия,— имя «великого Пана», дремлющего в пещере нимф... И кто знает, не к кругу ли этих мыслей относится странное восклицание, вырвавшееся у Тютчева в какой-то тяжелый миг...» (цитируется последнее трехстишие стих. «И чувства нет в твоих очах...»).