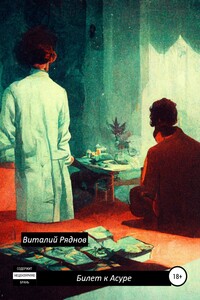Замкнутое пространство (сборник) | страница 91
Швейцер откинул со лба волосы и посмотрел ему прямо в глаза. Он тоже немного играл, от отчаяния. Сейчас, например, он вспомнил известную картину "Отказ от исповеди" (видел репродукцию) и на секунду возомнил себя стойким борцом за идею.
— Оставьте меня, — он хотел произнести эти слова с холодным достоинством, но вышло по-щенячьи.
— Значит, не веруешь, — констатировал отец Пантелеймон и огладил бороду. — Похвально. Ты верно мыслишь, ничего нет. Жизнь дается человеку, чтобы понять ее ужас и выбрать Ничто, то есть Бога, который, как известно, катафатически неопределим. Может быть, не Ничто, а все же Что-то, но мы, поскольку откажемся от жизни и от себя, этого не увидим, не различим. Он требует от нас отбросить волю, исчезнуть — кому ж тогда Его узреть? А не отважимся — узрим, и это будет Ярость. Худо нам придется, не возлюбившим Бога прежде себя. Ревнив он к Самости. Наука — суета, но даже ее безбожные адепты, когда они рылись в человеческих сновидениях, часто находили в них вместо Троицы Четверицу. О трех углах изба не строится! Четвертый угол Ярость, Гнев Божий. Откажешься от себя — спокойно уснешь и сгинешь, не откажешься от себя — сгоришь, узрев Бога.
Он задумался, решая, что бы еще сказать.
Швейцер собрался с силами и дерзко улыбнулся:
— Ошибаетесь, я сгину не весь. Я отказался от себя и все-таки останусь жить в той, которая спасала меня от ваших… — Он запнулся, подбирая слово. Опять засновали гады, мерзавцы и подлецы, которых его язык, вопреки очевидной действительности, по-прежнему не мог бросить в лицо уважаемому преподавателю.
Тот поразился:
— О чем ты? В ком ты собрался жить?
— Вы знаете, в ком. В Дуне.
Какое-то время отец Пантелеймон непонимающе моргал, но вскоре разобрался, в чем дело, и прыснул изумленным смешком:
— Так вот ты зачем!.. Но с чего ты решил?..
Швейцер взглянул на него исподлобья:
— А разве не так? Не всем же без чести жить. А если по чести, то ей пересадят почки, которые я повредил. Разве это невозможное дело? Вот он, я готов.
Отец Пантелеймон хлопнул себя по бедрам, откинулся и начал хохотать.
— Да ты… да ты… — повторял он сквозь взрывы хохота и слезы. — Ой, убил… О чем же тут разговаривать… Все, все…
Он встал и пошел к выходу, отмахиваясь от Швейцера, как от смешинки.
— Рыцарь! Все-все-все, — Пантелеймон напоследок согнулся и так, согбенный, долго мычал и крутил головой. Сквозь радостное мычание прорывался рык. Затем он вытер слезы и уже с порога, обернувшись, сказал: