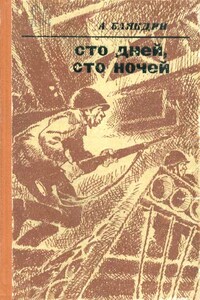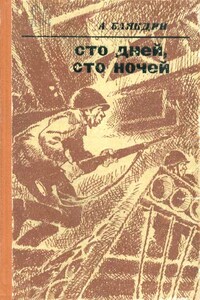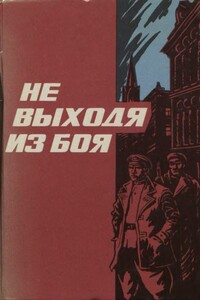Сто дней, сто ночей | страница 67
Я в душе проклинаю Германию, Гитлера, фашистов и войну. Нам с Сережкой слишком много досталось, гораздо больше, чем положено человеку в жизни. Мы стали не по летам серьезными и злыми, не по летам научились понимать то, что в мирное время нормальный человек усваивает только к тридцати-тридцати пяти годам. Мы познали себя, познали своих товарищей, мы познали человека и его настоящую природу. Где, как не в бою, человек проявляет всего себя, все тайники своей души, своего нутра? Война, как рентгеновский аппарат, просвечивает человека, выявляет его скрытые язвы, наросты, опухоли.
Я подхожу к Смураго. Он торопливо отворачивается и, как мне кажется, смахивает слезу. Мне нечего сказать этому убитому горем человеку. Я просто не знаю, что сказать. Он первым нарушает молчание.
— Ну что тебе, Митрий?
У меня не находится подходящих слов для ответа.
— Давайте вместе будем стоять, — наконец предлагаю я.
Смураго поворачивается в мою сторону и берет меня за рукав шинели.
— Эх, Митрий! — вздыхает он. — Пожалуй, давай. Одному несподручно, ты прав.
Он молчит, потом продолжает:
— А скажи: ты ничего не заметил?
Я догадываюсь, что он спрашивает о себе.
— Нет, а что?
— Да так, ничего… Показалось: ходят… — хитрит он.
У меня появляется желание говорить. Чем черт не шутит — может, это в последний раз.
— Как вы думаете, о нас вспомнят когда-нибудь?
— Чудной ты. Конечно, вспомнят. Всякая история оставляет след.
— И напишут, может?
— Напишут или нет, я того не знаю. И не к чему знать. Мы ведь не для того воюем, Митрий, чтобы о нас писали. — Он помолчал. — Вот скорей бы землю нашу очистить от этой гадины… А там уж… — Смураго вздохнул полной грудью и добавил слабым просящим голосом: — Покурить бы.
Я машинально роюсь в карманах шинели, но, кроме пыли и катышков ворса, ничего не нахожу.
Желание разговаривать пропадает так же быстро, как появилось. Брякнуться бы на пол и спать, спать, спать. Этого-то мы и боимся сегодня. Сон — наш враг. Он силен, даже сильнее фрица. Я кусаю себе язык, правым каблуком с силой надавливаю на левый носок; но все равно глаза слипаются, видения цветными пузырями плавают в утомленном до предела мозгу. Даже вши и те не могут отогнать свинцовую тяжесть сна.
Как утопающий, хватаюсь за ремень Смураго, чтобы ненароком не упасть. Выстрелы, крики, брань — все доносится издалека, мягко и зыбко, точно через толстый слой ваты.
Меня что-то сильно встряхивает — и я открываю глаза.
— Не спи! — тормошит меня Смураго. — Видишь, опять лезут.