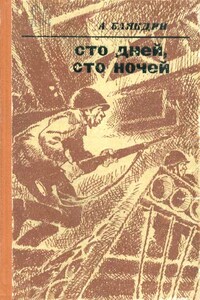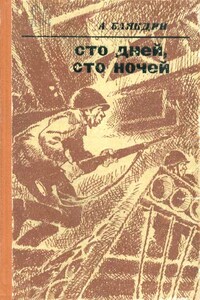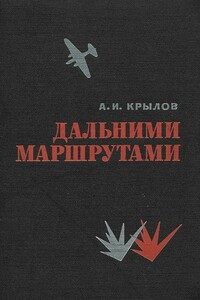Сто дней, сто ночей | страница 24
Левый берег Волги для нас играет роль Большой земли. Там все: и тяжелая артиллерия, и аэродромы, и госпитали, и штаб фронта, и основные базы тыла.
Мы с надеждой смотрим на туманную полоску берега, которая нас кормит, снабжает боеприпасами, поддерживает огнем катюш, дальнобоек, присылает истребители и штурмовики «илы».
Наши реактивные минометы сводят фашистов с ума. Мы часто слышим, как при очередном залпе немцы кричат «катуша-а!» и разбегаются кто куда. По ночам прилетают двукрылые ПО-2 и сбрасывают бомбы. Эти машины нас умиляют. Они бесшумно подкрадываются к немецким позициям и наводят панику. Мы ни разу не видели, чтобы наш милый «русфанер» был сбит.
Сегодня пришла почта. Журавский идет по коридору и размахивает письмами.
— Быков, тебе плясать! — кричит он мне.
Я подскакиваю к нему и протягиваю руку. Но он ударяет пачкой писем по моей ладони и шипит:
— Ты что же не выполняешь уговора?
Я стою и хлопаю глазами.
— Мы не уговаривались, — выдавливаю я.
— Все пляшут, и ты пляши.
Дядя Никита издали наблюдает за нами.
— Я не умею.
Журавский смотрит на мою петлицу и продолжает:
— Ну, как хочешь, я пойду.
Он делает два шага вперед, задевая меня локтем.
— Отдай! — умоляю я.
Но он только взмахивает письмами у меня под носом:
— Подождешь!
Тут происходит неожиданное. Семушкин быстро отмеривает несколько шагов и преграждает дорогу связному. Его глаза мечут искры, рука тяжело ложится на плечо Журавского.
— Ты что же это надумал?
Связной презрительно кривит губы.
— Не твое собачье дело!
— Собачье? — переспрашивает дядя Никита. — Ты говоришь, собачье?
На лбу Семушкина выступают красные пятна. Он одной рукой приподнимает связного и сильно встряхивает. Ноги Журавского отрываются от пола, и весь он точно порожний мешок.
— Отдай! — рычит младший сержант и ставит Журавского на место. — Ишь ты, что надумал. В письмах горе да слезы, а он на тебе, пляши. Я тебе попляшу.
Тот отряхивает шинель и сует в мои руки конверт.
— Я же пошутил, а вы и взаправду подумали.
— А «собачье дело» тоже, чай, шутка?
Журавский поспешно отходит от грозного дяди Никиты.
— Собачье или нет, а я это вам припомню, — огрызается он.
— Припоминай, припоминай, треклятая твоя душа! — ругается дядя Никита.
Журавский скрывается за поворотом, мы идем к своим окнам.
— Ишь ты, — не унимается Семушкин. — Мало того, что издевается над человеком, так еще и оскорбительством занимается. Ну погоди, мошенник, дойдут мои руки до твоей шкуренки. Я те, каналья ты этакая, покажу, где раки зимуют.