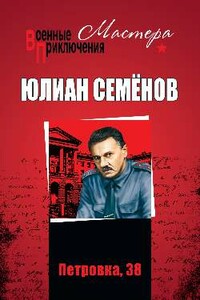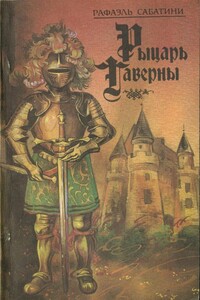Третья карта (Июнь 1941) | страница 131
– Вы считаете, Мельник хочет уравнять Бандеру с собой?
– То есть? — не понял Диц.
– Мельник был военным шпионом.
– Очень интересная мысль, — чуть улыбнулся Диц.
– Дарю, — сказал Штирлиц. — И забываю о подарке.
– Спасибо. Вероятно, вы правы. Он хочет сквитаться. Занятный нюансик...
– Что, что?!
– Я говорю, нюансик занятный. Если оба вываляны в дерьме, то шансы отмыться равные.
– Что касается нюансика, не знаю, а по поводу «отмыться» — очень мудро, Диц, очень мудро.
Штирлиц снова был подобран и напряжен: он впервые встретился сегодня с Дицем с глазу на глаз после того случая с Еленой. Каждый из них понимал, что встреча эта должна определить очень многое в их отношениях, — если не все.
Диц знал, что гестапо имеет своих людей в системе политической разведки Шелленберга. Штирлиц, в свою очередь, был убежден, что его шеф не смог до сих пор получить ни одного агента в ведомстве Мюллера. То, что произошло два дня назад в краковской военной гостинице, когда Диц нарушил закон о чистоте расы, ставило его и Штирлица в положение совершенно исключительное.
Не все понимают и чувствуют суть исключительного. Чаще всего этим даром чувствования обладают музыканты и литераторы. Этим даром — в определенной степени — обладал Штирлиц. Он поэтому не торопил событий, справедливо полагая, что если свершилось нечто исключительное, то проявлять торопливость, настойчивость, радость, юмор, силу — значит в конечном счете проиграть выигранное.
Он исходил в своих суждениях из существа личности Дица. Штирлиц был убежден, что самое понятие «исключительного» тот проецирует лишь на себя одного, причем только потому, что уверовал в свою арийскую особость. Тогда как исключительное — это тот или иной пик состояния человеческого духа, который влияет на последующие события. Он был прав, Штирлиц. Действительно, после того случая Диц испугался, затаился, но не для того, чтобы нанести удар, а потому лишь, что наивно ждал, когда все забудется. Но ничто не забывается — ни слово, ни поступок. Тот, кто верит, что можно забыть, тот ближе к плоти, чем к духу, ближе к животному, чем к человеку.
Штирлиц ждал этой встречи, он был убежден, что Диц захочет остаться с ним наедине. Штирлиц наметил ряд возможных линий поведения гестаповца и каждую из этих линий проиграл в воображении, чтобы точно подстроиться к Дицу, когда тот будет предлагать себя.
Штирлиц понимал, что на человека нельзя жать; на такого, как Диц, особенно. Если противопоставить ему методы, которые тот сам исповедовал, ничего путного не получится: легче бороться против того, что тебе хорошо известно. Значительно труднее