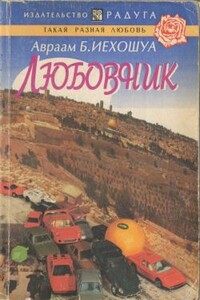Господин Мани | страница 68
— Да, бабушка, я, конечно, думал о таких высоких материях, как честь и ее сохранение после разгрома… Но для человека, который впервые в жизни встречается с врагом лицом к лицу, да еще на оккупированной территории, я действовал, как видите, вполне умело, хотя, надо признать, руки слегка дрожали. С тех пор мне приходилось сотни раз задерживать и связывать людей на этом острове, но тогда, когда я связывал этого духа с лицом в морщинах, руки довольно сильно дрожали, он же улыбался мне так мягко, словно хотел сказать: я вас понимаю и ничего не имею против…
— Очки мне были необходимы, бабушка, так как с пятого класса, как бы трудно вам ни было в это поверить, я на самом деле страдаю близорукостью…
— Я еще раз, в который уже раз, уважаемая бабушка Андреи, призвав на помощь вес мое терпение, заверяю, что грохота боя я не слышал, собственно для этого я и привел вас на этот холм — чтобы вы собственными глазами увидели, какое расстояние отделяет ту заброшенную лощину, куда меня отнесло ветром, от мест, где шли бои на самом деле. Вот тут, на берегу и на подступах к Ираклиону, внизу под нами…
— Может, и не верил…
— Может, и не мог поверить… Не забывайте, что в те первые дни боев судьба всей этой гениальной операции была еще на волоске…
— Может, и не хотел верить… Может, вы в чем-то и правы, бабушка…
— Верно. Я признаю. Иногда я поддаюсь пораженческим настроениям, чтобы не быть застигнутым врасплох отчаянием. Я признаю…
— Вот видите, когда я соглашаюсь с вами и частично признаю свои ошибки, вы сразу вините во всем меня и только меня… Как обычно…
— Опять? Получается априори? Будто я родился уже во всем виноватым. Какой смысл продолжать рассказ?..
— Нет, хватит! Достаточно… Давайте спускаться… Какой смысл что-либо объяснять? Довольно!
— Конечно. Да. Я сержусь, потому что вы не желаете выслушать меня, бабушка, потому что вы уже вынесли приговор: он хотел дезертировать, бежать от войны, а я совсем не хотел бежать от нее, я хотел ее понять, и с того самого момента, когда я, исторгнутый из чрева самолета в бескрайний мир, один-одинешенек, оказался между небом и землей, слыша свист пуль и крики тех, кого они поражают, уже тогда я понял, что самый легкий путь — оказаться среди них, среди погибших, а самый трудный — попытаться понять, и я выбрал трудный путь, и потому, спустившись с дерева, на которое опустил меня ветер, я повернул на юг, бабушка, в сторону одиночества, полагаясь на свой инстинкт и разум, веря, что они не подведут, что их повеления по четкости и надежности не будут, по крайней мере, уступать приказам генерального штаба; я настолько проникся уготованным мне одиночеством, что просто не мог в последний момент не обернуться и не перестрелять всех коз, чтобы они не плелись за мной и не нарушали покоя человеческим выражением своих дурацких морд. И вот, бабушка, один как перст, во тьме ночной я оказываюсь среди руин древней цивилизации, да еще той, которая всегда так привлекала и пленяла меня; я еще не знал, как к ней приобщиться, и поэтому совершенно естественно, бабушка, что, когда мне подвернулся этот, стало быть, грек-гид, я попытался выжать из него все, что возможно, и он стал сразу же отвечать на мои вопросы, причем очень любезно; несмотря на унизительное положение, в которое я его поставил, он говорил со мной с самого начала не как враг, сломленный или затаивший злобу, а как один интеллигентный человек говорит с другим, в легкой, непринужденной манере; он искал точки соприкосновения на своем примитивном и медленном немецком, который, как он сказал, выучил, работая гидом, а сейчас, обратите внимание, с момента, когда он увидел, как небо над островом побелело от парашютов немецких десантников, он был уверен, что мы победим и что среди этих десантников найдется хотя бы несколько подлинных гуманистов, людей высокой культуры, которые, когда отгремит бои, обязательно пожелают совершить экскурсию с гидом но знаменитому лабиринту, но он и не предполагал, что уже в первый день судьба пошлет ему одного из таких гуманистов, который свяжет его по рукам и ногам и посадит в амфору…