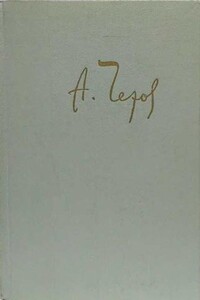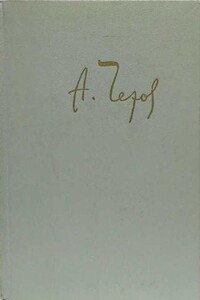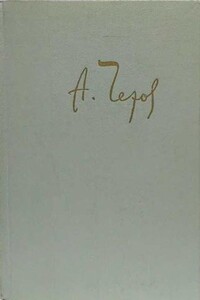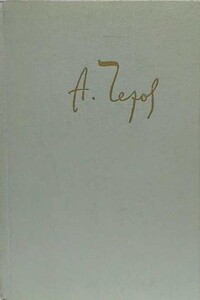Взбаламученное море | страница 170
Простой народ стал приходить наконец в отупение: с него брали и в казну, и барину, и чиновникам, да его же чуть не ежегодно в солдаты отдавали.
Как бы в отместку за все это, он неистово пил отравленную купленную водку и, приходя оттого в скотское бешенство, дрался, как зверь, или со своим братом, или с женой, и беспрестанно попадал за то на каторгу.
Образование по всем ведомствам все больше и больше суживалось: в корпусах было бессмысленно подтянутое, по гимназиям совершенно распущенное, а по семинариям, чтобы не отстать от века, стали учить только что не танцовать. Оттуда, отсюда и отовсюду молодые люди выходили ничего несмыслящие.
Всюду слышался неумолкающий ни на минуту, но в то же время глухой и затаенный ропот.
Сама природа, как бы разделяя это раздраженно-напряженное состояние, насылала то тут, то там холеру.
2
Что-то веет другое
В сентябре 1853 года наш посол князь Меньшиков выехал из Константинополя.
Зачем и из-за чего эта война началась — в народе и в обществе никто понять не мог. Впрочем, не особенно и беспокоились: турок мы так привыкли побеждать! Но Европа двинула на нас флоты английский, французский и турецкий!
Хомяков писал в стихах, что это на суд Божий сбираются народы.
Несмотря на нечеловеческое самоотвержение войска, стало однако сказываться, что мы не совсем военное государство; но зато государство совсем уж без путей сообщения…
В Европе удивлялись нашим полуголодным солдатам и смеялись над генералами.
С 18 февраля 1855 года Россия надела годичный траур.
Героизм Нахимова, горевший, как отрадный светоч, перед очами народными, и тот наконец погас. В сентябре 1855 года была напечатана лаконическая депеша из Севастополя: «наши верки страдают»!
Исход дела стал для всех понятен.
Все почувствовали общее, и нельзя сказать, чтобы несправедливое, к самим себе презрение.
«Русский вестник» уже выходил. Щедрин стал печатать свои очерки. По губерниям только поеживались и пошевеливались и почти со слезами на глазах говорили: «Ей-Богу, это ведь он нас учит, а мы и не умели никогда так плутовать!»
В Петербурге тоже закопошились.
Добрый наш приятель, цензор Ф***, может быть, лучше многих понимавший состояние общественной атмосферы, нашел совершенно невозможным служить.
— Цензуры нет! — шепнул он нам однажды. — Нет ее! — воскликнул он потом с увлечением. Затем, будучи сам большим шалуном по женской части, объяснил подробнее свою мысль: — Я прежде, в повестях, если один любовник являлся у героини, так заставлял автора непременно женить в конце повести, а теперь, помилуйте, перед героиней торчат трое обожателей, и к концу все разбегаются, как собачонки.