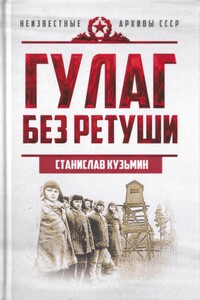Эссе и рецензии | страница 92
Прочитав первую главу “Онегина”, Вяземский сообщил “на ушко” Александру Тургеневу, в письме от 22 апреля 1825 г., что в “Чернеце” Козлова, третьестепенного стихотворца того времени, “больше чувства, больше мысли”, чем у Пушкина; и в тот же день (литературные судьбы, приглашая на казнь, любят соблюдать порядок) третьестепенный стихотворец Языков писал брату, что, дескать, дай Бог, “Чернец” окажется лучше “Онегина”.
“Грандисон, герой Кларисы Гарлоу, — преспокойно пишет Чижевский (упом. труд, стр. 230, перевожу с англ.), — известен матери только как прозвище московского унтер-офицера!” (сарджента). Особенно хорош этот восклицательный знак. К ошибкам в русском тексте Чижевского прибавились ошибки беспомощного перевода (следовало, конечно, либо сказать “энсин”, либо объяснить удельный вес русских гвардейских чинов того времени). И далее:
“Превращение — (продолжаю переводить) — старухи Лариной из чувствительной девы в строгую хозяйку было обычным явлением и для мужчин и для женщин в России”. Что значит этот бред?
Между прочим: всякий раз, что вижу заглавие, приведенное выше, мгновенно вспоминаю (такова цепкость некоторых ассоциаций) мысль, выраженную тонким философом Григорием Ландау (захваченным и замученным большевиками около 1940 г.) в его книге “Эпиграфы” (Берлин, около 1925 г.): “Пример тавтологии: бедные люди”.
Если не знать, что эта формула не что иное, как затасканная псевдоклассическая метафора французской риторики, moisson, moisson finèbre, la mort qui moissonne,[64] то можно написать целый трактат о частом появлении этого образа у русских поэтов. Чижевский, по каким-то соображениям сопоставивший эту несчастную “жатву” с земледельческими образами в… “Слове о Полку Игореве”, оказал медвежью услугу и так небезупречной подлинности этого замечательного произведения.