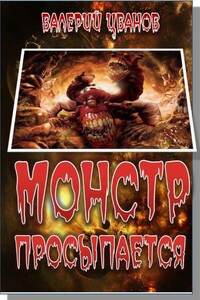Орфей | страница 34
За исключением меня, дурака, никто в Крольчатнике о себе не говорил. И о других помалкивали. Только благодаря имевшейся на туалетной полочке моего коттеджа предыдущей бутылочке я сумел разговорить неделю назад трясущегося, как нынче, Сему. О себе он также наотрез отказался говорить. Зато рассказал занятный анекдотец из прежней жизни Кузьмы Евстафьевича Барабанова. Правда, к делу анекдотец, оказалось, не пришьешь. Разве что в тонких нюансах.
Кто был Кузьма Евстафьевич по роду-племени, Сема, естественно, не знал, как не знал, из-за чего, собственно, очутился в Крольчатнике. Но Сема знал его как крупнейшего московского коллекционера живописи и раритетов. В масштабе страны и даже шире. Все его знали. (Кроме меня, но я в тех сферах никогда не обращался.) Личный друг Костаки. Знакомый Сороса. То ли свидетель, то ли участник, то ли эксперт в давнем-давнем, но сохранившемся в виде канона деле Мороза (иконы). Из последнего — консультант в прецеденте с похищенными манускриптами, когда понадобилось состряпать компромат и посадить «генерала Диму». А эпизод, о котором говорил Сема, заключался в следующем. Во времена махрового застоя, когда по-настоящему интересных выставок было раз-два и обчелся, как-то некоторая такая состоялась на Грузинах. Авангардисты двадцатых, живущие андеграундисты из полуразрешенных или вообще привезенные отъезжанты. Короче, простому советскому — тогда — человеку далекие. «Грузины» в той Москве славились демократизмом, граничащим с вольнодумством.
В толпе, состоящей на четверть из искусствоведов в штатском, наполовину из «своих», а на четверть из случайно забредших «простых советских», затерся совсем уж простой советский адмирал. Кто его знает, чего он там забыл. Может, дочка привела, может, молодая (новая) жена Адмирал при всем параде. В наградах, кортике, золоте рукавов и «краба». Смотрит одно полотно, другое, третье смотрит, десятое, и берет его сизая, как вечер на рейде, тоска… Чего я тут не видел? Чего они во всей этой мазне находят? Как это вообще разрешили, и кто тут главный?.. Так думает себе наш адмирал. А народ роится, народу не протолкнуться, поскольку вольнодумная выставка разрешена только на три дня. Или вообще на один. Дочка, а может, молодая (новая) жена щебечет у локтя, разбирается, восхищается, млеет, глазки закатывает. Дружки ее, знакомцы патлатые, рядом тоже не молчат, мнения свои, шкот им смоленый куда не надо, компетентные высказывают. Плохо адмиралу Однако — не пристало Морфлоту быть слабым! Не пристало. Тоска пусть берет, зевота, как на вахте-«собаке», давит, но позицию свою неколебимую дать надо. Но — в рамочках. Только чтоб спутница, вроде как к ней одной обращался, слышала. Ну, и кто тут рядом окажется. Патлатые те же… Нет, я не думаю, что это близко. Сами смотрите, вот это что? А, это? Такая наша женщина, наша мать, жена, подруга наша героическая? А это ж вообще непонятно, как на это смотреть и что оно такое. Да еще целую, понимаешь, выставочную залу под это занимать!.. Говорилось все вполсилы адмиральского соленого штормового голоса прямо за спинами толпы почитателей и приближенных, окружавших Кузьму Евстафьевича. Вокруг от сего компетентного мнения поеживаются, но в дискуссию с человеком в большой форме не вступают. Не в моде тогда были дискуссии. Кузьма же Евстафьевич невозмутимо обернулся, но не всем телом, а этак через плечико, и, оглядев позументы и якоря сверху донизу, внятно, на весь зал, нарочито грассируя, уронил: