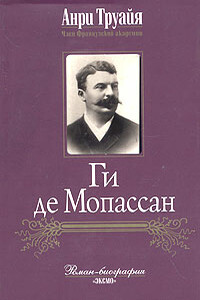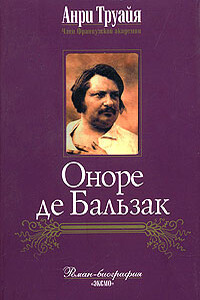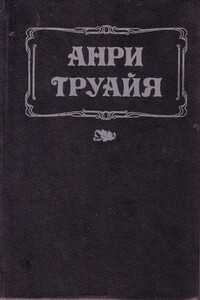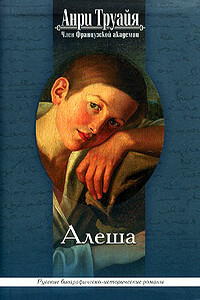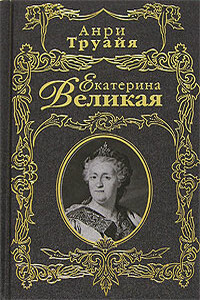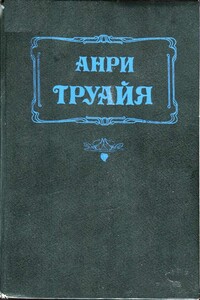Александр Дюма | страница 116
Выйдя на улицу после этого последнего прогона, он встретил нескольких товарищей-артиллеристов, уже прослышавших о его истории с королем. Некоторые из них принялись восхищаться тем, как героически он бросил вызов Луи-Филиппу, явившись во дворец в форме несправедливо уничтоженного элитного полка. Александр не стал их разочаровывать и продолжил свой путь с гордо поднятой головой.
В конце концов он дал согласие поставить свое имя на афише Одеона. Сын бывшего наполеоновского генерала может не стыдиться пьесы, призванной поддержать легенду об Орле, пусть даже литературные достоинства этой пьесы сомнительны. Премьера состоялась 10 января 1831 года. Зал был набит битком, яблоку негде упасть. Арель умело руководил рекламой. Многие зрители откликнулись на его предложение и пришли в форме Национальной гвардии. В антрактах военный оркестр исполнял патриотические мелодии. Некоторые картины – такие, как пожар Кремля, переправа через Березину, разговор сверженного императора с его тюремщиком, ужасным Гудзоном Лавом, – произвели на зрителей ошеломляющее впечатление. Однако аплодировали не автору, а его герою, память о котором оставалась немеркнущей. «„Наполеон“ имел успех только благодаря обстоятельствам, – признает Дюма потом в своих мемуарах. – Литературная ценность этого произведения была ничтожна или близка к тому. Только роль шпиона была создана мной, все остальное настрижено из разных мест». Тем не менее, когда занавес упал, зрители были настолько потрясены этим напоминанием о Наполеоне, что многие собрались у служебного входа, чтобы освистать актера Делестра, злополучного исполнителя роли Гудзона Лава.
Александр, естественно, был очень доволен тем, что ему удалось угодить большинству своих «клиентов», но он знал, что люди с хорошим вкусом, например Виньи, не собираются смотреть его пьесу, всю состоящую из сценических эффектов и исторических общих мест. Он хотел бы, чтобы его радость ничем не омрачалась, но как было не признать, что в этом заказном произведении больше показного блеска, чем подлинного искусства. И потому в предисловии, предназначенном для издания пьесы отдельной книгой, он утолил охватившую его жажду оправдаться. Напомнив в нескольких словах о судьбе отца, генерала Дюма, и заверив читателя в том, что преданность королю нисколько не противоречит любви к свободе, он впервые упомянул о своих эстетических взглядах. «Забавлять и увлекать – вот единственные правила, которым я не то чтобы следовал, но которые я признаю», – заявил драматург. Это было сказано искренне, точно и смело. Он мог бы и дальше придерживаться этих убеждений, однако уже опасался принизить себя, соглашаясь оставаться всего лишь балаганным кукольником. У Гюго или Виньи уровень притязаний совершенно иной! И не должен ли он, подобно им, стремиться к величию, не довольствуясь тем, чтобы служить развлечением? После мишурного блеска «Наполеона» Дюма очень рассчитывал на новизну, яркость и силу «Антони», чтобы доказать миру свою способность сравняться с романтическими мыслителями и поэтами, о которых все только и говорили, а может быть, и превзойти их!