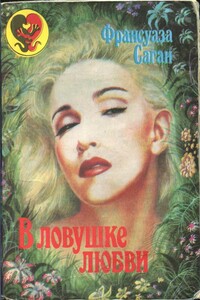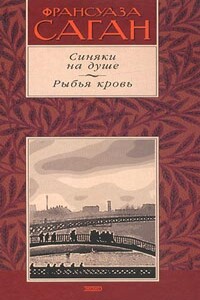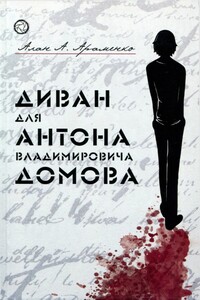Смятая постель | страница 92
Днем он, конечно, страдал меньше, даже если много кашлял, и в любом случае мысль о десяти маленьких смертоносных ампулах, спрятанных в ящике стола, о десяти маленьких часовых, утешала его. Но ночному себе он не доверял. Потому что ночью, в ночном одиночестве, ему случалось терять самообладание, становиться ребенком, оказаться под материнским крылышком, хотелось даже быть мужем или отцом. Неважно кем, лишь бы не быть одному. У Жолье не было друзей или подруг, которым он чувствовал бы себя вправе навязать свое высохшее тело, испарину, страхи. После отпуска, если можно назвать отпуском его недолгое прощание с морем, он попробовал обратиться за помощью к тем продажным девицам, на которых никогда не жалел денег, обратив их на этот раз в своих сиделок. Он платил за ночь самую дорогую цену и после ужина, где был, как всегда, необыкновенно любезен, спокойно объяснял свою ситуацию и ложился рядом, разумеется, не испытывая никакого желания, но хотя бы в тепле. К несчастью, все как одна девицы, опечаленные, видимо, состоянием своего старинного друга и шокированные целомудрием куда больше, чем любым сладострастием, взяли себе за правило за ужином напиваться. Так что выходило, что Жолье, справившись со своим кошмаром, находил возле себя не дружелюбный покой сонного ласкового тела, успокаивающего своим ровным дыханием, а мечущуюся и храпящую пьяную женщину. Раздраженный, он вновь вернулся к одиночеству. И вскоре понял, что хорошо ему только с Беатрис. Когда она приходила к нему, он мог лежать в кровати или сидеть в гостиной, неподвижный и безучастный, погруженный в состояние сонного отупения от наркотиков. Беатрис удивлялась. Удивлялась его безразличию, его апатии; ей казалось, сама она в подобной ситуации всеми силами наслаждалась бы жизнью.
– Я и сам так думал, – сказал ей Жолье, когда она как-то спросила его об этом. – Ведь я обожаю музыку, живопись, есть столько книг, которые я поклялся себе перечитать перед смертью. Думать-то думал, но, оказалось, мне сейчас они не нужны – ни книги, ни музыка… Все наводит скуку, все утомляет, все отнимает у меня мое время. Впрочем, – добавил он с оттенком гнева, – перед лицом смерти не существует уже никакой личности. Остается только соединение клеток, которые упрямо сопротивляются разъединению. Пустота и сердце, которое все еще бьется; биение моего сердца – вот единственная музыка, которую я могу выносить; единственное, на что мне хочется смотреть, – голубая вена на моей старческой руке, она пока еще пульсирует. Единственное прикосновение, которого я жажду, – прикосновение к собственной коже. Беатрис, в своей жизни я увлекался чем угодно, кроме онанизма, но теперь я дошел до того, что кладу руку себе на щеку и замираю от восхищения… Как будто я никогда и не восхищался никем, кроме себя. Да и как я могу желать чужую плоть, восхищаться чужим лицом? Мне трудно даже быть с кем-то рядом.