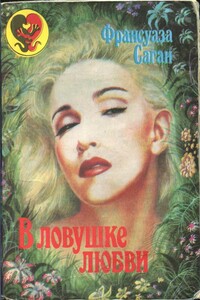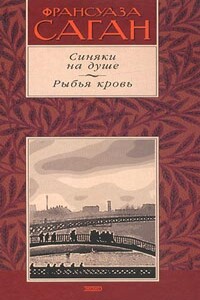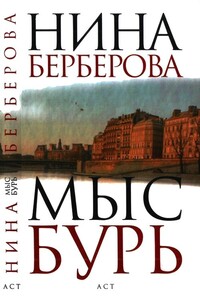Смятая постель | страница 65
Отказавшись и от Эдуара, и от Тони в качестве сопровождающих, Беатрис пришла в гримерную за час до начала. И Тони, и Эдуар раздражали ее: Эдуар тем, что считал, будто она согласилась на эту роль по доброте душевной, а Тони тем, что, напротив, думала, будто Беатрис делает это из чувства соперничества. Но для самой Беатрис дело было совсем в другом. Она быстро загримировалась и переоделась и была готова за полчаса до начала. Когда режиссер, проходя по коридору, монотонным голосом возвестил: «Через полчаса на сцену!», она вздрогнула, с удивлением почувствовав, как кровь приливает к лицу и щеки вспыхивают. Так было пять лет назад, однако ее отражение в зеркале не имело ничего общего с тем, почти забытым, тогдашним. Тогда от ее игры зависели ее карьера и жизнь. Сейчас ей нечего было терять.
Но руки у нее дрожали, и она крепко вцепилась в край гримерного столика, словно старалась раздавить если не страх, то уж точно гнев: Беатрис не любила столь неожиданных эмоций; она к такому не привыкла. Потом она позвала костюмершу, попросила рюмку коньяку и стала расспрашивать ее о том, как она живет, как идут дела в театре, и обо всяких закулисных историях, слушать которые обычно избегала, – короче, сделала все возможное, чтобы заполнить пустоту получасового ожидания. И все-таки, уже стоя на сцене за темным занавесом, она продолжала дрожать, удивляясь самой себе.
Привычный шум раздвигающегося занавеса; она стояла, залитая светом, перед бледными пятнами лиц, выступающими из мрака, перед загадочной, незнакомой толпой. Она глубоко вздохнула и звонко произнесла первую реплику. Отошла от пианино, на которое облокачивалась. Пошла к партнеру. И уже знала: счастье, свобода, вдохновение, искренность, сила – все вдруг вернулось к ней. Сердце больше не колотилось от страха, не трепетало, как трепещет оно от страсти, утомления или честолюбивых стремлений, – оно билось, билось по-новому, глубоко и ровно. Сердце билось сильно, голос звучал искренне, и наконец, наконец-то она высказывала свою правду! Ощущение фальши, сна наяву, противоречивых чувств, тоски по прошлому, которые не оставляли ее в обыденной жизни, исчезли; все лица, которые она видела перед собой, слились в одно-единственное лицо, которое любила, потому что ничего не была ему должна и потому что никогда его больше не увидит. Это лицо требовало, чтобы она обманывала его, заставляла мечтать, смеяться, плакать, короче, требовало всего, чего угодно, но только не правды. Той случайной заурядной скучной правды, которой всегда требовали и никогда не получали от нее родители, друзья и любовники. Зато из каких бы чудовищных преувеличений ни состояла ее роль, их всегда было мало этому лицу, этим близким и далеким людям: ее публике. И она всегда будет требовать от нее больше и больше. Беатрис произносила чужие слова, воспроизводила чужие движения перед чужими людьми, которых не знала, и была наконец самой собой. И «люблю тебя» она говорила в тысячу раз искреннее своему партнеру (известному педерасту), чем любому из своих возлюбленных. И этот псевдоанглийский интерьер, взятый напрокат на месяц и пустующий двадцать два часа в сутки, был для нее роднее собственного дома; и небо, нарисованное на холсте, которое виднелось за ненастоящим окном, в самом деле означало ясную погоду. И когда в качестве Клер она покидала эти жалкие декорации, то ее просьба, обращенная к партнеру, – поливать цветочек из пластика, звучала душераздирающе. Не любя в отдельности ничего – ни напомаженного молодого человека, ни поддельную мебель, ни взятые напрокат аксессуары, – она неистово любила временность и искусственность всего этого.