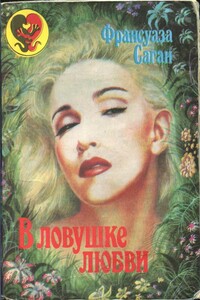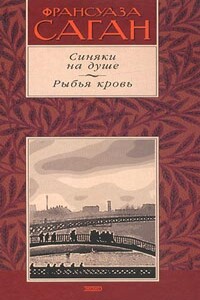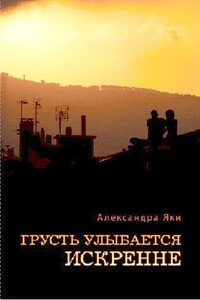Смятая постель | страница 30
Больше того, он уже знал, что разница между тем, что ему хотелось бы высказать, и тем, что у него в конце концов получалось (как бы он ни старался эту разницу уменьшить), и есть его стиль, его голос и, может быть, его талант. Слова были его господами и они же были его слугами. Он чувствовал, что зачастую в жизни он был для других всего лишь огорчительным или огорченным партнером в плохой реалистической пьесе, где все мы, живущие, вынуждены играть, серьезно или поверхностно, в зависимости от того, какой выдался день. Он знал, что, общаясь с людьми, он всего лишь невнятно бормочет, постоянно ошибается и попадает впросак, а потом досадует на себя за свои ошибки. Но потом, чуть позже, стоило ему остаться у себя в комнате с чистым листом бумаги наедине, как кони его воображения пускались в галоп под звуки невидимых скрипок. И разве важно, что кони ненастоящие, а скрипки иной раз звучали фальшиво? Они влекли его за собой, и жизнь вновь становилась подлинной, наполнялась смыслом и токами крови. И тогда, будто в толщу вод, он бросался в воду, он погружался в темные глубины своего сознания, похожий на моряка-подводника, неистового и невидящего. На поверхности оставались только его тело, голова, руки, лежащие на столе. И еще его взгляд, если бы ему помешали, взгляд, не отражающий ничего, кроме того, что он видит в перископ своего воображения, того, что никто другой не сможет увидеть вместо него. Он один расшифрует запутанные темные знаки, которые его рука, будто рука телеграфиста в состоянии каталепсии, начертает на бумаге.
Потом, конечно, ему вновь придется воссоединиться со своим телом, руками, взглядом. Воссоединиться с другими людьми и, как они говорят, опять «окунуться в жизнь». И вот в этот миг, когда он почувствует, что вновь выплывает на поверхность, хотя все еще охвачен грезами, увидит себя вынырнувшим после глубокого погружения на пустынную и бесцветную поверхность реальной жизни, и единственный остров среди ужасающего океана реальной жизни будет называться Беатрис; по крайней мере, единственный, где он может высадиться; потому что подле нее, отдаваясь любви так же, как он отдавался писательству, он грезил, а значит, жил. Все остальное время он пребывал в своей оболочке и своем времени, на которое взирал со страхом и искренней доброжелательностью, так что все это ясно чувствовали, но причину определяли неверно. «Ты все еще со своими персонажами, да? – спрашивали они. – В своих историях?» И снисходительно улыбались. Эдуар, радуясь такому благородному оправданию, охотно соглашался. На самом деле он думал о своих героях только тогда, когда работал. Обычно в голове у него крутился какой-то путаный нескладный фильм, мешанина, слепленная из обрывков стихов, музыкальных фраз, неудачных реплик и безвыходных положений, которые нравились ему своей безвыходностью. Беатрис в них всегда играла главную роль. Он не мечтал о том, что спасет ее из пламени и усадит к себе на колени, безумно влюбленную в него. Никогда. Сама по себе реальность была теперь так ослепительна, что, несмотря на все сомнения и страхи, он не желал ничего прибавлять к ней ни на йоту. Он не хотел, чтобы эта реальность менялась, напротив, желал, чтобы она длилась без конца. Пусть будет ни лучше, ни хуже, ибо, что ни говори, не может быть ничего лучше Беатрис в его объятиях и ничего хуже той же Беатрис, покидающей их, вырывающейся из них. И то и другое происходило по десять раз за день: упоение, затем обвал. Он дрожал при мысли, что в этот прекрасный хаос ворвется нечто чуждое, падение затормозится, а путаница упрочится. Он хотел, чтобы внутри безумного волчка, которым стала его страсть, ничто не менялось. Ни она, ни он.