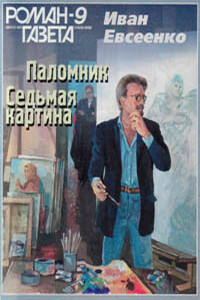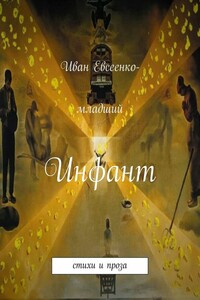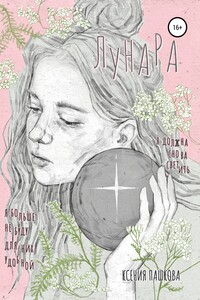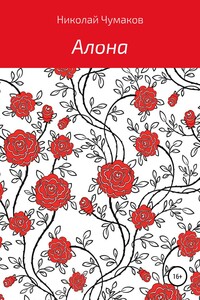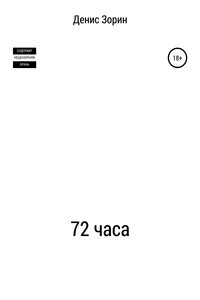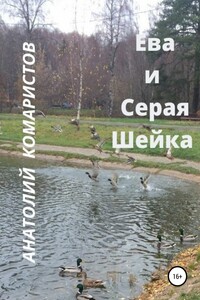Отшельник | страница 80
Уборку Андрей закончил только во втором часу и решил наконец отобедать не всухомятку, как делал это все последние дни в дороге, а горячей домашней пищей, сваренной в печке или в лежанке. Конечно, затопить печку было куда как заманчиво, поставить перед полымем горшочек с супом (пусть даже и концентрированным, на домашний нет ни картошки, ни луку, ни других необходимых приправ) или сковородку с тушенкой. Но, во-первых, на суп у Андрея не имелось хорошей, пригодной для питья и варева воды (он сходил к колодцу, проверил – вода там еще не набралась и не отстоялась), а во-вторых, кто же растапливает печку на ночь глядя. Занятие это раннеутреннее, деревенский день с него всегда начинается, а не заканчивается. К вечеру же полагается топить лежанку, чтоб в остывшей за день горнице накопилось тепло, и Андрей решил не отступать от давно заведенного правила и порядка: коль он вернулся в родительский дом, то и надо здесь жить так, как жили отец с матерью, дед и прадед, не одно поколение деревенских людей много раньше, в неведомые века, оседлым, а не кочевым образом.
Андрей принес из повети несколько охапок дров, специально заготовленных отцом для лежанки (поленца укороченные и мелко поколотые), аккуратно сложил их клетью на колосниках и поджег, использовав для этого обрывок старой какой-то, еще советской газеты, которую обнаружил на этажерке с книгами. Газету перед сожжением Андрею хотелось прочитать, чтоб узнать и вспомнить, чем и как жили люди в далекие теперь эти советские времена, но он сдержался и читать не стал, чтоб зря и понапрасну не бередить душу: ничего из прожитого и минувшего не вернешь, сгорело оно в безумном пожаре-огнище, и остались от него одни головешки.
Сухие березовые поленца жадно подхватили газетное пламя, занялись, и через несколько минут лежанка уже утробно гудела, полыхала жарким огнем. Андрей, все-таки порядком намерзшись за последние дни, по-детски обрадовался ему, присел возле лежанки на ослончике и не стал закрывать чугунную дверцу. Огонь было метнулся к озябшим его руками и коленям, но потом одумался и, подчиняясь печной тяге, пополз вслед за дымом в темную глубину лежанки, в ее кирпичные лабиринты и колодцы. Андрей завороженно, действительно как в детские далекие годы, когда не раз сиживал здесь с отцом или с матерью (отец любил поджарить перед полымем кусочек сала, наколов его на палочку-шампур, а мать спечь в поддувале картошки), смотрел на него, вдоволь насыщался теплом, только теперь поняв и по-настоящему ощутив, как весь он, до последней косточки и клеточки, прозяб и промерз за время дороги. Но что-то еще завораживало Андрея в этом неярком печном огне. И он вдруг догадался – что! За последние годы, почти безотлучно проведенные на войне, Андрей ни разу не видел мирного, домашнего огня, воспламененного для приготовления пищи и обретения тепла. Он видел лишь огонь войны в неостановимых пожарах, взрывах, огонь разрушения, страшной гибели, страданий и смерти. Даже те небольшие костерки, которые солдаты украдкой от противника разжигали во время операций и походов, чтоб согреть себе какую-никакую еду, вскипятить чай или обсушиться после переправы через реку, не были мирными, животворящими, не были очагами, поскольку кормили и согревали людей, несущих смерть и идущих на смерть, а значит, сами были ее соучастниками. Они и горели совсем не так, как этот печной их собрат, не так согревали тело и человеческую душу, в сущности, они были холодными, мертвыми.