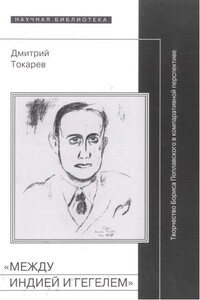Мотив вина в литературе | страница 39
В обеих «сценах» действия фактора «Зла» были преломлены в художественно-технологические самозадания. При этом в увертюре «Гроза» инспирированная фактором «Зла» интонационно-технологическая игра была ориентирована на своего рода «соревнование» с учителем, на доказательство ему ценности новейших достижений европейской музыки и требовала изобретательного творчески-созидательного подхода. Все издержки жанра «мальчишеской выходки» вполне искупались здесь творческими успехами композитора. В случае же с кантатой обнаружилась заложенная уже в самой технике пародирования тенденция к снижению художественно-образной содержательности переинтонируемой музыки, ведущая в случае своего однозначного применения без дополнительных творческих импульсов к деструктивному результату или творческому самоуничтожению. И действительно, кантата вряд ли может быть отнесена к числу сколько-нибудь удачных сочинений композитора. Не сговариваясь, два критика, представлявших разные лагеря, — Ц. А. Кюи и А. Н. Серов вынесли кантате самый решительный и убийственный приговор.[128] Можно так же предполагать, что по-настоящему оценить всю злонамеренность содеянного смог кажется лишь такой профессионал как А. Г. Рубинштейн. И это, вероятно, навсегда определило характер его последующих отношений с Чайковским.
К счастью, Чайковский не только преодолел искушение идти этим путем, но и смог поставить сам этот явно неизбывный для себя фактор «Зла» на службу творчеству. Уже в 1-й симфонии, написанной всего лишь спустя полгода после злополучной кантаты и поразительно отличающейся от нее высоким творческим пафосом и конструктивным совершенством, он «возвращаяется» на линию созидательной оппозиции к консерватории, начатой еще в «Грозе». Подтвердив свое «непослушание» учителю использованием материала из отвергнутых им сочинений — «Грозы» и фортепианной сонаты, Чайковский во всеоружии приобретенной традиционной композиторской техники в целом ряде ярчайших музыкально-стилевых аллюзий декларировал свою приверженность интонационным формам пренебрегаемых Рубинштейном Моцарта, Шумана, Глинки и русской крестьянской песни.[129]
Общую суть такого служебного использования фактора «Зла» можно формализовать следующим образом. Испытывая воздействие взрывающего его внутренний мир раздражительного фактора, в тех случаях, когда это воздействие не разряжалось в бытовых или других каких-либо нетворческих ситуациях (скандалах, «сценах» и пр.), композитор находил ему выход, сублимируя его провоцирующее начало и его энергию в творческие задания, побуждающие создавать своего рода «проказы», «розыгрыши», «мальчишеские выходки» и даже «злые шутки» в музыкально-технологической и в художественно-содержательной сфере создаваемых произведений. Фактически в каждом удачном, значительном по масштабам своей содержательности произведении Чайковского обнаруживается наличие особой музыкально-технологической работы «взрывного» или хотя бы интонационно-диалогического, «дискуссионного» характера. Проявление этого провоцирующего фактора сделалось у композитора важнейшим условием для плодотворного творчества. И в тех случаях, когда этот фактор почему-то не проявлялся, например, в идеальных с точки зрения психологического комфорта условиях, композитор, кажется, нарочно провоцировал его зарождение.