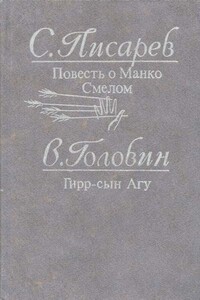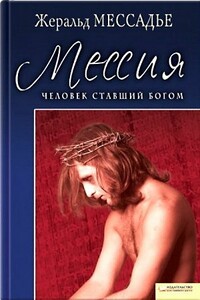Лавиния | страница 64
– А ты нет? – с интересом спросила Сильвия.
– Нет. Он не способен ни на жалость, ни на сострадание. Он видит только себя.
– Ну и что? Ведь он богат, он красив, он – царь. – Ее ирония была, в общем, незлой, но она явно никакого сочувствия ко мне не испытывала. Она переживала за Альмо и хотела наказать меня за то, что ее брат страдает.
По-моему, Сильвия отлично понимала, как мне страшно, но все же не пожелала спросить, чего именно я боюсь, а потому и я не смогла быть с ней откровенной, хотя мне очень этого хотелось.
Но расстались мы все же друзьями. Сильвия не могла не понимать, что Альмо пытался прыгнуть выше головы, что он действительно подверг бы и себя, и свою семью смертельной опасности, завоевав женщину, которую выбрал себе в жены царь Турн. На прощанье она крепко меня обняла, поцеловала и, вздохнув, сказала:
– Ох, как жаль, что так все получилось! Хорошо бы на свете вообще никаких мужчин не было! Хорошо бы мы могли, как прошлой весной, опять ходить вместе на реку!
– Может, еще и сходим, – бодро ответила я, но на сердце у меня кошки скребли. Я поцеловала Сильвию, мы с ней распрощались, и я побрела назад через поля, очень стараясь не плакать. Я и так все время лила слезы, и меня от этой «сырости» уже просто тошнило. И не было на всем белом свете никого, с кем я могла бы обо всем поговорить по душам, кто действительно мог бы понять меня. Разве что тот поэт. Маруна, пожалуй, тоже поняла бы меня, но с ней говорить о моей матери было нельзя. Нельзя просить рабов говорить или слушать нечто, порочащее их хозяев; это несправедливо, нечестно, это ставит их под угрозу. Ведь среди домашних рабов всегда найдутся лизоблюды и доносчики, как же иначе? В царском дворце, как говорится, у всех стен есть уши. Я знала, что Маруна мне сочувствует, и это очень меня поддерживало, но поскольку я не могла защитить ее, я не могла ей и довериться.
А большинство наших служанок просто понять не могли, почему я не прыгаю от радости, узнав о предложении Турна. Старая Вестина каждый день пела ему хвалы, сопровождаемая, можно сказать, целым хором завистливых вздохов и хихиканья.
Моя мать все продолжала страстно убеждать меня, что лучше Турна жениха мне не сыскать, но миновали уже четыре дня, и наступил пятый, то есть назавтра я должна была уже объявить о своем решении, и мать не выдержала. Ее отчаяние и вызванное моим упрямством раздражение вдруг прорвались в виде приступа того бешеного, неуправляемого гнева, какие мне не раз доводилось переживать в детстве. Как только я легла спать, Амата явилась ко мне в комнату в ночной рубашке и с крошечным масляным светильником в руках. В темноте этот огонек казался не больше бутона каперса, зато мать выглядела отчего-то очень высокой, даже громоздкой в своей просторной белой рубахе, с распущенными черными волосами, свисавшими вдоль ее бледного лица.