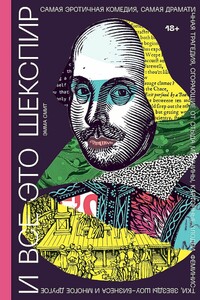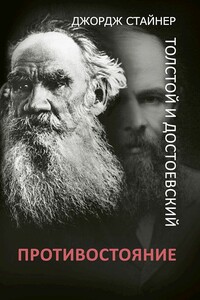Литературный текст: проблемы и методы исследования. IV | страница 55
Итак казалось бы, до-зеркальная стадия в рассказе Бунина — это стадия „пустоты, несуществования“, чисто объектною восприятия, несознавания и, по существу, бездеятельности духа. Соответственно с открытием зеркала приходит все то, чего не было прежде. Но как раз в этом „не было“ бунинский повествователь позволяет себе усомниться:
„Где я был до той поры, в которой блеснул первый луч моего сознания, пробужденною светлым стеклом, висевшим в тяжелой раме между колонок туалета? Где я был до той поры, в которой туманилось мое тихое младенчество?
— Нигде, — отвечаю я себе.
Но, в таком случае, я, значит, не существовал до этой поры?
— Нет, не существовал.
Но тут вмешивается сердце:
— Нет. Я не верю этому, как не верю и никогда не поверю в смерть, в уничтожение. Лучше скажи: не знаю. И незнание твое — тоже тайна“ (2, с. 273). Показательно, что сам вопрос повествователя о своем досознательном и дорожденном состоянии возникает в рассказе в восьмой главке, после описания заключительной попытки героя разгадать тайну зеркала. Диалог повествователя с самим собой можно прочесть не только по заготовленному европейской литературной традицией стандарту — как разговор „сердца“ с „рассудком“, чувства с трезвым знанием. Но, используя логику Бахтина, его можно прочесть и как диалог между единственным и исключительным „я“, абсолютно бесконечным внутри себя, с заочным и завершенным образом „я“, порожденным зеркальной перцепцией. „…Я не могу весь войти в мир, а потому не могу и весь выйти (уйти) из него. Только мысль локализует меня целиком в бытии, но живой опыт не верит ей“,