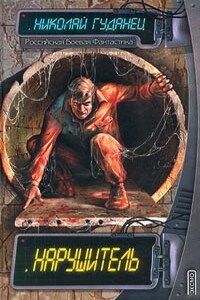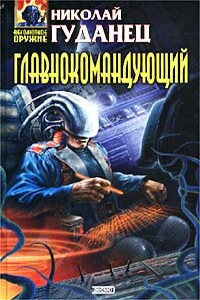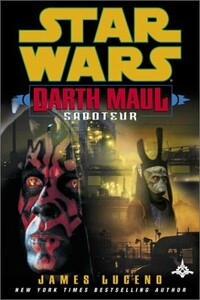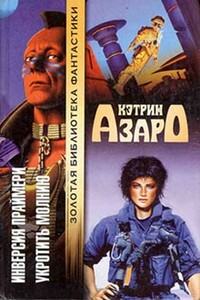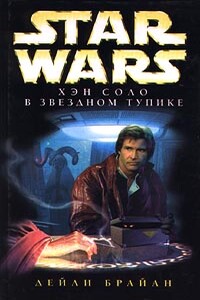Планета, на которой убивают | страница 20
Ну и как насчет того, чтобы прожить эти двести пятьдесят два года, по пятнадцать месяцев каждый, на девяносто пять хухриков ежемесячно, уважаемый пенсионер Трандийяар? Бред какой-то. Я даже начал проникаться повышенным уважением к своей скромной персоне, ведь кто-то же ухнул такую прорву денег ради того, чтобы меня подставить. Хотя в качестве неопровержимой улики вполне хватило бы пистолета. Загадочная щедрость, прямо скажем.
В обойме осталось четыре патрона, пятый в стволе, два потрачены на Лигуна. Ствол нечищенный, со свеженьким пороховым нагаром.
По логике событий следовало ожидать, что скоро нагрянут полицейские. Но предпочтительнее все-таки смотаться отсюда прежде, чем они заявятся.
И тут раздался звонок в дверь.
До сих пор для полного набора улик недоставало самой малости — моих отпечатков пальцев на чемоданчике и оружии. Теперь даже эта крохотная неувязка устранилась по воле случая, и меня можно было арестовывать тепленького, безнадежно влипшего по самые уши.
Только вот звонок брызнул коротенькой, как бы неуверенной трелью, словно палец ожегся о кнопку и отдернулся. На полицейские замашки совсем не похоже.
Ногой запихнув чемоданчик с деньгами под тахту, я сунул пистолет за спину, под брючный ремень, одернул куртку и пошел открывать.
На пороге стояла Зайна.
— Здравствуй, Мес, — произнесла она с какой-то вымученной, слегка перекошенной улыбкой.
— Здравствуй, — ответил я и посторонился, пропуская ее в прихожую, она же кухня, она же гостиная, она же душевая при случае.
Появление бывшей жены и вовсе не лезло ни в какие ворота. Ну ладно, подброшенные пистолет и кучу денег еще можно вразумительно объяснить. Но приход Зайны?
Неужто ее пухленький интендант ухитрился пасть смертью храбрых за Родину и Адмирала на каком-нибудь из продовольственных складов? Или, того пуще, в ней взыграли высокие чувства — любовь, долг, жертвенность и разные прочие мерехлюндии? Но тогда это не Зайна. Или я уж вовсе ничего не понимаю.
— Вот, — сказала она. — Зашла посмотреть, как ты живешь.
— Что ж, проходи в комнату, — откликнулся я.
И она вошла в комнату, где тысячи раз бывала, сама не ведая того. Желанная и презренная, любимая и ненавистная, впервые она вошла туда наяву и уселась на табурете, сложив руки на коленях, как пай-девочка на уроке.
От всего этого веяло глубоко запрятанной, но отчетливой фальшью. Она толком не представляла, как ей держаться и что говорить. Не сама она сюда пришла, не по своей воле. Но по чьей?