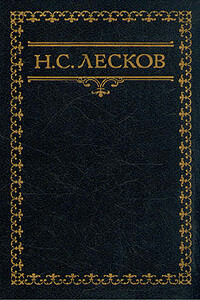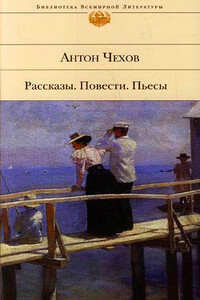Аккомпаниаторша | страница 7
Она усадила меня в кресло, взяла мои руки в свои, сама расстегнула мне ворот, чтобы не было слишком жарко. Потом велела раздеться, позвонила горничной и приказала подать чай. Она смотрела на меня с невыразимым вниманием, забота была в ее глазах, забота и любопытство. Сначала она только спрашивала: сколько мне лет, какая я, что я люблю, согласна ли я уехать с ней, если понадобится? Потом, когда принесли чай, она налила себе и мне, положила мне на тарелку тонкие ломтики белого хлеба, намазанные маслом и покрытые ветчиной и сыром, и стала говорить сама, слегка повернувшись в сторону, чтобы не смущать меня. И я ела, ела, ела.
— Я давно знаю по имени вашу маму, Сонечка, — говорила она, — я буду звать вас Сонечкой, потому что вы еще совсем девочка, и это, может быть, если быть откровенной, единственное, что меня в вас пугает, нет, не пугает, а беспокоит немножко. Не будет ли вам со мной скучно? Не захочется ли вам домой, в Питер — ведь мы можем уехать далеко, очень далеко… Вы, наверное, и не представляете себе, как далеко. Я много работаю, четыре часа в день непременно, что бы ни было, без поблажек для себя самой, а значит и для вас. Потом концерты. Ведь это будет настоящее турне, Сонечка, первое мое настоящее турне, и оно должно быть удачным.
Я сделала движение.
— Меня знают только в Петербурге, — продолжала она, заметив это. — Я хочу большего. Я очень честолюбива. Без честолюбия не бывает таланта; надо быть честолюбивой, Сонечка, и я вас этому научу.
Я вздрогнула, но на этот раз она не заметила ничего.
Она говорила. Я слушала. Я понимала, что жизнь нас может связать на долгие годы, что разговор этот не повторится — бывает так: чем люди более сживаются друг с другом, тем вернее пропадает у них потребность говорить о себе. Этот разговор мог оказаться единственным, я это чувствовала, и все же я засыпала, я знала, что сейчас засну.
Я убеждала себя, что мне надобно ловить каждое слово, что все это пригодится мне когда-нибудь после. Между нами зажглась лампа под низким шелковым абажуром, занавески на окнах закрыли белые сумерки, низкий, нежный голос тек надо мною, пахло духами, губы мои еще чувствовали недавнее прикосновение тонкого, прохладного ветчинного жира. Ноги мои отяжелели, я поставила их, как тумбы, перед собой и как бы забыла о них, плавая в сладкой дремоте, где какие-то тени шли навстречу усталым моим глазам, брали меня за руки и медленно раскачивали мою голову, в то время, как я сверхъестественным усилием старалась держать открытыми мои пьяные от тепла и сытости глаза.