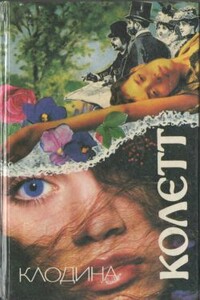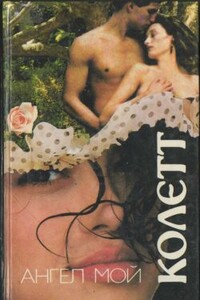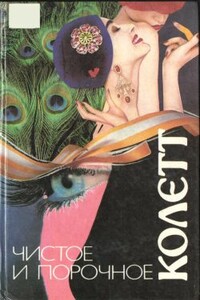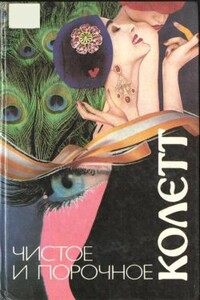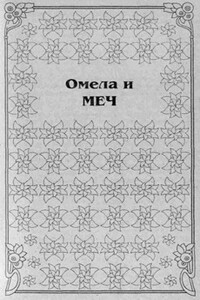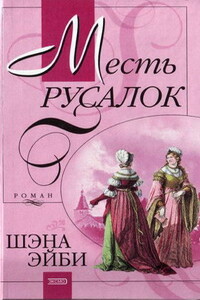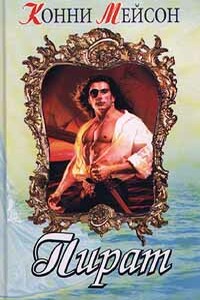Возвращение к себе | страница 77
Старик, старик!.. возможно ли? Друг мой, мой возлюбленный, дорогой мой спутник, часами мы в неистовстве слышали лишь дыхание друг друга – возможно ли, спрашиваю я вас? А если так, если вы в самом деле превратились в бледную и сгорбленную тень моего любимого, то какое затмение помешало мне предвидеть то, что случится? Мне двадцать восемь, вам пятьдесят, юность вашей зрелости была столь блистательной, нетерпеливой, пылкой, что я не раз желала – о мой дорогой! – чтобы к пятидесяти вы остепенились… Зловещее чаяние услышало насмешливое божество! И вот вы в одно мгновение, как по волшебству, непоправимо стали тем, к чему звало вас моё неосторожное пожелание: стариком!.. Поблёкла тёмная озёрная гладь ваших глаз, увяли губы, которые так нравились моим губам, ослабли объятия красивых, сильных, как у влюблённой женщины, рук!.. Так кто же и за что так меня покарал? Вот стою я в слезах, сложа руки, совсем как Анни, что оплакивала на этом самом месте самую осязаемую и презренную разновидность любви… Я полна силы, которую никогда не растрачивала вполне, я молода – и наказана, и лишена всего, что я втайне любила с горячей страстью, и наивно заламываю руки над пропастью краха, перед изувеченным слепком былого счастья… А тот, кого я с влюблённой шутливостью звала «папочкой», до конца наших дней превратился и впрямь в моего престарелого родственника…
Он любит меня и молча страдает от боли унижения, потому что я отказываюсь принимать то, что он мне предлагает: его ловкие руки, губы, которые умеют доставлять такое удовольствие… Нервы мои, моя стыдливость восстают при мысли, что он оказался вдруг услужливым бесчувственным инструментом…
Он здесь, в соседней комнате, его тревожит моё присутствие и моё молчание. Он хочет позвать меня, но не решается. С самого дня возвращения я читаю на его бледных губах застывший вопрос, желание объясниться… А я уклоняюсь. Лучше страдать – но не слушать то, что он скажет. Мы героически лжём, улыбаясь друг другу, как чужие. Я начинаю мурлыкать какой-то мотив, потому что ловлю его мысль и знаю: если я сейчас не заговорю, не запою, не подвину стул, он меня окликнет. Когда я одна, я трусливо предпочитаю мучиться, сама стремлюсь к невыносимой, как ожог, боли, но ему я лгу – умиротворённой разглаженностью лба и покоем глаз, безобидной ласковостью губ, – потому что не хочу, чтобы он заговорил, унизился до извинений, которые оскорбят меня ещё больше, чем его, – его отказа от своих прав я не приму никогда, никогда… Я отвергаю свободу! Я гляжу на вас с чуть презрительной нежностью, как на игрушку своего детства, – кто знает, может, мне и не приведётся больше с вами играть…