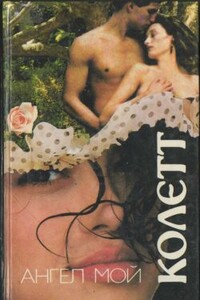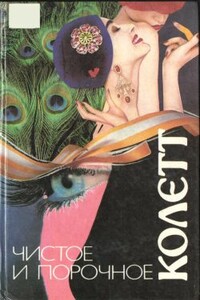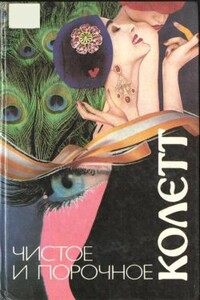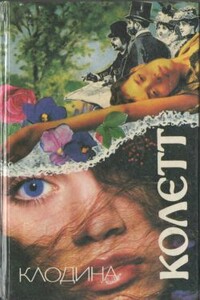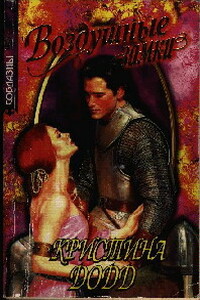Возвращение к себе | страница 19
Рено, выросший в другое время, когда к таким людям относились менее снисходительно, а сами они вели себя не так бесстыдно, не может привыкнуть к выходкам сына. И действует непоследовательно. То жалеет Марселя как «больного», то в ярости кричит на него, угрожает отхлестать по щекам, засадить в колонию, ну и всё в том же духе… «Малыш», как я его называю, выслушивает отца молча, только недобро поглядывает на него. И тут между ними встреваю я – не столько в надежде что-то уладить, сколько из желания тишины и покоя, – и, представьте себе, мой безумный пасынок иногда проявляет благодарность. Не к отцу, а ко мне он обращается нежнейшим голоском: «Знаете, Клодина, у меня в карманах совсем пусто…» Устав повторять: «Они у вас, должно быть, дырявые», я выдаю ему луидор, он тут же прячет его и, прикладываясь к моей руке, облегчённо вздыхает: «Вы просто прелесть, Клодина! Ей-же-ей! Не будь вы женщиной…»
Да, но это в Париже… А здесь – видеть рядом сомнительных нравов бездельника, пусть даже не дольше недели, слушать его звонкий смех, чувствовать, как он умирает от скуки рядом со мной и Анни… о, нет! нет, нет и нет! Я готова отдать пятьдесят луидоров, только не это! Пусть убирается и не тревожит тёплой горечи моего одиночества, не оскверняет «моей Казамены»: моего убежища, где порыжевшую, благоухающую самшитом землю захватил дикий виноградник – она лежит на голубой мягкой вате гор как неогранённый драгоценный камень. Неосторожное обещание Анни: «Казамена будет вашей» – проникло в самую глубь моей весьма приземлённой души. Неужели правда этот островок с лабиринтом, крохотным мраморным фронтоном, зарослями багрянника и мошника, эта драгоценность, вышедшая из моды, как брошки с миниатюрным портретом, будет принадлежать мне? Потом, когда Рено снова окажется рядом, я дам волю своему фермерскому инстинкту, доставшемуся мне от предков из Пюизэ – крестьян, ревностно следивших за своим добром.
Уже теперь, когда мне становится тяжело думать о Рено, считать дни, представлять его пополневшие щёки, совсем поседевшие усы (он этим по-детски огорчён), вспоминать, как его левая праздная ладонь раскрывается в расточительном жесте, а правая сжимает несуществующее перо, когда мой нахмуренный до боли лоб устаёт от размышлений, – я обращаюсь мыслями к Казамене, новой своей игрушке. Теперь я не могу с прежним безразличием видеть упавший побег виноградной лозы. Обязательно подвяжу его скрученными стеблями тростника, потом приподниму пышную листву розового куста, озабоченно рассматривая почки будущего года. То ковырну жирную землю, то сломаю сочную травинку, и всё это с мыслью, достойной первого человека, отвоевавшего себе прибежище: «Вот эта трава – моя, и жирная земля под ней – тоже, и тот пласт, где копошатся черви, и извилистые ходы крота, и та твердь под ними, что никогда не видела света, – тоже моя; если я захочу, то завладею чёрными подземными водами и первой выпью глоток с запахом песчаника и ржавчины…»