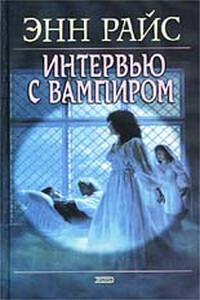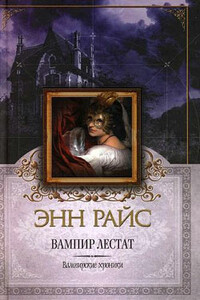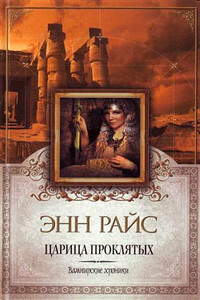Кровь и золото | страница 51
Делать все как положено: мгновенно вонзать клыки и насыщаться, не проливая ни капли, – оказалось не так-то просто. Но я справлялся и вместе с кровью с наслаждением вливал в себя чужие жизни.
В Древнем Риме не было необходимости прятать трупы. Иногда я сбрасывал их в Тибр, а иногда просто оставлял на улице. Особенно мне нравилось убивать в тавернах. Впрочем, как ты мог убедиться, я и сейчас предпочитаю такие места.
Ничто не сравнится с тем приятным ощущением, которое испытываешь, когда после долгой прогулки по сырому и темному ночному городу перед тобой вдруг распахивается дверь и глазам предстает совсем иной мир – теплый, светлый, полный людского смеха и песен. Таверны, бары и им подобные заведения обладают особой притягательностью.
Разумеется, столь безудержный разгул, неуемная жажда и бесконечные убийства стали следствием моего расставания с Пандорой: я горевал и страдал от одиночества. Кто мог меня остановить? Кто мог меня переспорить? Да никто.
Конечно, в первые месяцы после разлуки я еще мог написать ей, ибо она, скорее всего, по-прежнему жила в нашем доме в Антиохии и ждала, надеясь, что я наконец образумлюсь. Однако этого не случилось.
Меня обуревал гнев, тот самый гнев, который я и сейчас пытаюсь преодолеть. А гнев, как я уже говорил, подавляет волю. Я не смог сделать то, что должен был сделать: не вернул Пандору. Иногда одиночество заставляло меня убивать за ночь троих или четверых, пока я не начинал проливать кровь на землю, не в силах проглотить больше ни капли.
Иногда под утро гнев во мне утихал, и тогда я возвращался к своим историческим запискам. Я начал составлять их еще в Антиохии, но никому об этом не рассказывал.
Я делал записи обо всем, что видел в Риме, будь то достижения или, напротив, свидетельства упадка. Я до мельчайших подробностей описывал каждое здание. Но потом наступила ночь, когда я решил, что все мои труды бессмысленны. Кому нужны мои наблюдения, стихи и сочинения, если я не могу передать их смертному миру?
Все, что пишет монстр, убивающий людей ради собственного выживания, изначально отравлено и порочно. Ни поэзии, ни истории, берущим начало в жадном уме и алчном сердце, нет места в этом мире.
Рассудив так, я принялся уничтожать не только свежие записи, но и все, что сочинил в Антиохии. Один за одним вынимал я свитки из сундуков и предавал их огню, как недавно историю собственной семьи. А некоторые просто убирал с глаз долой, запирал под замок, чтобы старые бумаги не вдохновили меня на дальнейшее творчество.