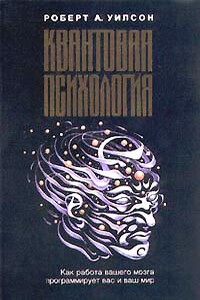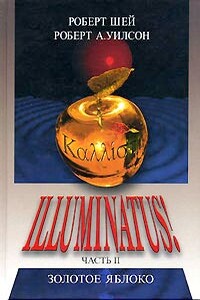Психология эволюции | страница 70
На семантическом этапе импринтной уязвимости мы приобретаем:
По достижении половой зрелости срабатывает еще один триггер ДНК, и посланники РНК инициируют следующую морфологическую мутацию тела-сознания. Импринтируется и кондиционируется “взрослая личность”. Мы становимся:
“МОРАЛЬНЫМИ” ИЛИ “АМОРАЛЬНЫМИ”
РОБОТИЧЕСКИ-ПОКОРНЫМИ ИЛИ РОБОТИЧЕСКИ-НЕПОКОРНЫМИ
ДОБРОПОРЯДОЧНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ СЕКСУАЛЬНЫМИ ИЗГОЯМИ
“РОДИТЕЛЯМИ” ИЛИ АНАРХИСТАМИ
Недостаточное понимание этих морфологических изменений, а также их постоянное влияние на импринтные контуры мозга — это причины большинства неудач в общении и общего чувства нетерпимости, с которым мы слишком часто противостоим друг другу. Так как импринты у всех немного отличаются — никто не может в точности соответствовать среднему[59] — иногда мы чувствуем себя подобно квакеру из анекдота, который говорит жене: “Весь мир сошел с ума, кроме тебя и меня, а иногда я сомневаюсь даже в тебе”.
Рейхианцы, последователи доктора Спока и Саммерхильской школы и т. д. нетерпеливо пытались привлечь наше внимание к грубости и тупости многих традиционных методов воспитания детей. Эти методы оказываются “грубыми” и “тупыми”, только если видеть, подобно вышеуказанным еретикам, цель воспитания в формировании нормального, уравновешенного, творческого человека. В РЕАЛЬНОМ МИРЕ ЭТО НИКОГДА НЕ БЫЛО ЦЕЛЬЮ НИ ОДНОГО ОБЩЕСТВА. Традиционные методы воспитания совершенно логичны, прагматичны и здоровы для достижения истинной цели общества, которая состоит не в том, чтобы создать идеальную личность, а в том, чтобы создать полуробота, который максимально близко подражает общественному идеалу — как в рациональных, так и в иррациональных аспектах, перенимая как мудрость веков, так и всю накопленную человечеством жестокость и глупость. Причина очень проста: полностью сознательная, пробужденная (избежавшая промывания мозгов) личность не сможет точно вписаться ни в одну из ролей, предлагаемых обществом; изувеченные же, роботизированные продукты традиционного детского воспитания прекрасно вписываются в эти ниши.
Получается, что существует нейросоциологическая “логика” алогичного. Не напоминают ли современные школы мини-тюрьмы? Не душат ли они воображение, не давят ли они ребенка физически и ментально и не практикуют ли различные формы явного и скрытого терроризма? Ответ, конечно же, однозначен: