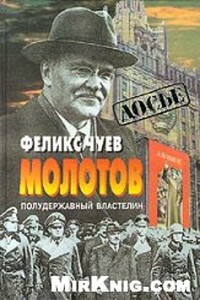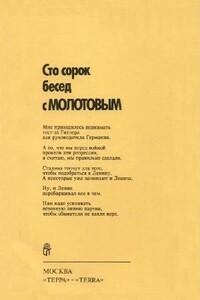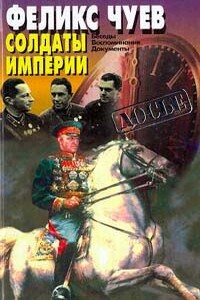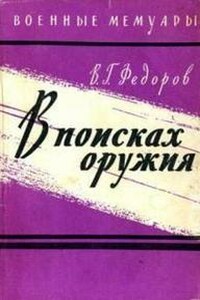Герои и антигерои Отечества | страница 88
Через сеть осведомителей Александр внимательно следил за умонастроениями в России и отдавал соответствующие предписания генералам, возглавлявшим сыск. Александр мастерски умел «перекладывать свою непопулярность» на других. Это видел и сам Аракчеев, говоря, что император представляет его «пугалом мирским». Отлично зная его «переменчивую натуру», Аракчеев даже в годы могущества не был уверен в прочности своего положения. Одному из сановников он говорил об Александре I: «Вы знаете его — нынче я, завтра вы, а после опять я».
Курс самодержавия был тесно связан с общеевропейской реакцией. Окончательный поворот Александра к реакции определился в 1819–1820 гг., что было отмечено современниками. «Как он переменился!» — писал об Александре в середине 1819 г. в своем дневнике Н. И. Тургенев. Не скрывал такой «перемены» и сам Александр, говоря осенью 1820 г. австрийскому канцлеру Меттерниху, что он «совершенно изменился». Наблюдательные современники, в первую очередь декабристы, связывали перемену курса русского монарха с политическими потрясениями в странах Западной Европы: революциями в Португалии, Испании, Неаполе, Пьемонте 1820 г., греческим национально-освободительным восстанием 1821 г. «Происшествия в Неаполе и Пьемонте, с современным восстанием греков произвели решительный перелом в намерении государя», — писал В. И. Штейнгель.
Речь Александра при открытии второй сессии польского сейма 1(13) сентября 1820 г. сильно отличалась от сказанной два с половиной года назад. Он уже не вспоминал о своем обещании даровать России «законно-свободные учреждения». В это время полыхали революции в южноевропейских странах. «Дух зла покушается водворить снова свое бедственное владычество, — говорил теперь император, — он уже парит над частию Европы, уже накопляет злодеяния и пагубные события». Речь содержала угрозы полякам применить силу в случае обнаружения у них какого-либо политического «расстройства». На собравшемся осенью 1820 г. конгрессе держав Священного Союза в Троппау (в Австрии) Александр I говорил о необходимости «принять серьезные и действенные меры против пожара, охватившего весь юг Европы и от которого огонь уже разбросан во всех землях». «Пожар в Европе» заставил сплотиться реакционные державы Священного Союза, несмотря на их разногласия.
В Троппау царь получил известие о восстании лейб-гвардии Семеновского полка, выступившего в октябре 1820 г. против жестокостей его командира полковника Е. Ф. Шварца. Первым сообщил Александру это неприятное известие Меттерних, представив его как свидетельство, что и в России «неспокойно». Это произвело сильное впечатление на Александра. Поражает суровость его расправы с этим старейшим, прославленным гвардейским полком. Полк был раскассирован по различным армейским частям, 1-й его батальон был предан военному суду, и основная его часть разослана по сибирским гарнизонам без права выслуги, 8 «зачинщиков» приговорены к наказанию кнутом и последующей бессрочной каторге. Были преданы и четыре офицера полка, подозреваемые в «попустительстве» солдатам. Остальные офицеры были определены в разные армейские полки. Показательна лицемерными словами о «милостях» царская конфирмация приговора суда «зачинщикам» выступления. «Государь император, говорится в ней, — приняв в уважение долговременное содержание в крепости рядовых, равно и бытность в сражениях, высочайше повелеть соизволил, избавя их от бесчестного кнутом наказания, прогнать шпицрутенами каждого через батальон 6 раз и потом сослать в рудники».