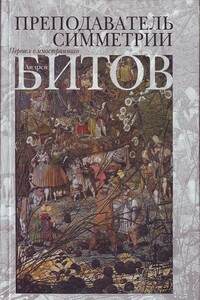Преподаватель симметрии. Роман-эхо | страница 44
— …Я увидел сверху монастырь и горы, я порхал, как бессмысленная бабочка, и вдруг обнаружил, что отлетел очень далеко, подо мной было море, и я стал падать. В этот момент в келью ворвался учитель и с криком: „Кто тебе это позволил? Как ты посмел!“ — стал бить того, в углу, палкой по голове. Тот не шевелился, как глиняный. А учитель все бил и бил, приговаривая: „Не смей этого делать! Это грех! Ты будешь наказан!“ Будто он не наказывал, а всего лишь бил. Проскользнув незаметно в окошко, я встал в свой угол перед пустой чашкой и смиренно не смотрел в их сторону. Мне, однако, показалось, что один или другой раз он бросал взгляд в мою сторону. И бил „того“ все неистовей. Мне его не было почему-то жалко. Тут учитель вдруг бросил „того“, повернулся ко мне и, рассмотрев меня теперь в упор, сказал: „Пришел в себя? Больно? Боль пуста“. И вышел.
Гумми опять замолк. Он был далеко.
— А Луна? — нетерпеливо воскликнул Давин.
Щеки Гумми вздрогнули, будто он спрыгнул с большой высоты, и он сморщился. Опомнившись, продолжил, но уже как-то устало, и слова все более вяло сходили с его языка.
— Я очнулся на полу… Весь избитый… Чашка стояла с водою. Я выпил воды… — И он замолчал.
— Про Луну… — сказал Давин жестоко.
— Я улетел на нее.
— Когда?
— После этого.
— После того, как выпили воды?
— Да.
— Но как же? Вы же парили. Это же медленно. До Луны около четырехсот тысяч километров. Десять раз вокруг света…
— Это не важно… — с трудом произнес Гумми, будто с каждым словом у него распухал язык. — Парить — это удовольствие, баловство… А можно еще оказываться.
Доктор Давин устал, как язык Гумми; будто это он сам еле ворочался в его рту.
— Ну, и какая же она, Луна? — спросил он со скукой. Глаза Гумми остекленели от немоты. Что-то стремительно приближалось к ним вплотную, и взгляд его разбивался. Словно он видел перед собой что-то все ближе, настолько отчетливо, что терял дар речи, потому что не вспоминал, а — видел. Давину даже на мгновение померещилось, что в его радужной оболочке отразилось нечто, чего перед ними не было (они как раз шли по полю), и он затряс головой. — Так что же, какая? — спросил он настойчиво.
— Коричневая… — еле выжевал Гумми и выпустил слюнявый пузырь.
„Да он еще и припадочный…“ — успел подумать доктор.
…Когда Гумми пришел в себя, над ним склонялось встревоженное и виноватое лицо Давина. Он тер Гумми виски. Он так обрадовался, когда Гумми пришел в себя, заулыбался заискивающе и ласково.