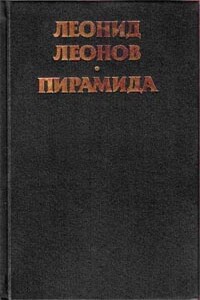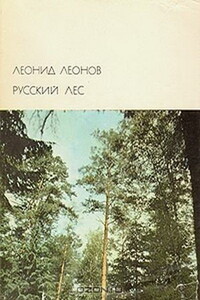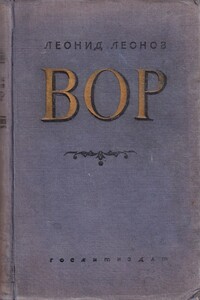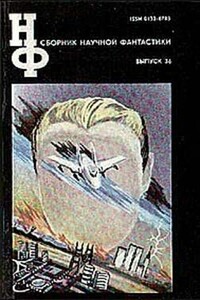Дорога на океан | страница 27
За мрачной ночью человечества пришла Эллада. Со страниц книги поднялось солнце. Прежде чем научиться думать, люди учились улыбаться. Курилова вдоволь потешили картинки эллинской космогонии. В лавровых рощах резвились розовопятые богини; на высокой центральной горе пировали с выдвиженцами и родственниками здоровенные мужики, Гомеровы игрушки, боги-выпивохи, боги-жулики и военного звания боги. С наивной и беспечной точностью была разграфлена вселенная, и только Харон, перевозчик на иной, безветренный берег, омрачал веселое повествование об Элладе. От румяного животного хаоса отслоилось первое грустное познание самого себя. Познав улыбку, люди научились пугаться ее утраты. Незнакомый с бытовым строеньем древности, Курилов представил себе Харона на русский образец. С круглым щербатым лицом, в солдатских обмотках, Харон сидел на корме дырявой ладьи, подстелив под себя рядно, скручивал махорочную ножку и вонял; облезлая армейская манерка — вычерпывать, что натечет из щелей,— валялась у него в ногах. Курилов захлопнул книгу и, как был, в шлепанцах и без гимнастерки, стукаясь о стены, отправился пить боржом.
Темный чад образа преследовал его до ночи. Что ж, такой аккомпанемент соответствовал цели поездки. По существу, Курилов возвращался на похороны. Он торопился отдать последний поклон человеку, с которым прожил двадцать три честных, ничем не возмущенных года. Эта женщина дружески заботилась о нем, это была его последняя хорошая женщина. Нетрудно было вообразить, как вслед за длинным ящиком пойдут они вместе с Клавдией; она еще жестче сомкнет губы и ни слова не промолвит ни о чем. За тридцать с лишком лет подпольной работы она хоронила и не такое! Садный гриппозный ветерок понесет им в лицо бумажки и пыль... Он позвонил сестре еще с вокзала. Бранливым голосом она упрекнула его за опозданье. Катеринку сожгли накануне. Подробности были обычные. Кроме того, у Клавдии шло заседанье; она положила трубку. Оба знали, впрочем, что в тот же день встретятся в столовой партийного комитета.
Она присела к его столику просто, точно виделись еще вчера. Пахло едой, все спешили. И опять Клавдия не сообщала ничего о последних днях Катеринки. Молча они хлебали борщ. Дальше их меню раздвоилось; сестре запрещено было мясо. Курилов изредка взглядывал на Клавдию, на ее сухие, по-птичьи тонкие, точные в движеньях руки, на ее волосы, стянутые в тугой и маленький, как, бывало, у земских учительниц, пучок. Она не стригла волос, чтобы не следовать моде; вместе с тем она укладывала их так плотно, как будто боялась, что в ней заподозрят женщину. Тютчев был несправедливо зол, утверждая, что она напоминала Фукье-Тенвиля. Возможно, острослов имел в виду желчную и резкую прямоту знаменитого прокурора, но не желтое, кабинетное его лицо. Обращала на себя внимание моложавая свежесть впалых старухиных щек.