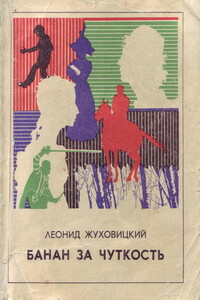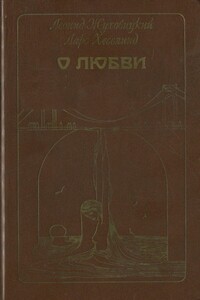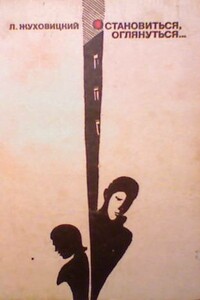Откат | страница 2
То, что я об этом думаю — всего лишь версия. Но если сегодня довольно много говорят об испарившемся в начале веке «царском золоте», не стоит ли посерьезней заняться и более близком по времени «золоте КПСС».
Богатство царской семью вывозили на чужбину железнодорожными вагонами. Как утекли богатства диктатуры, установлено не было.
Ясно одно: в эпоху электронной связи, строгих таможен и банковских афер возить «левое» золото вагонами по меньшей мере не реально…
А теперь сопоставим несколько цифр.
За проданную тюменскую нефть страна получила приблизительно полтораста миллиардов долларов. За границы Отечества в виде военной и прочей помощи сомнительным режимам ушло приблизительно полтораста миллиардов долларов — именно столько должны России разнообразные бывшие друзья, которые либо канули в небытие, либо не собираются долги возвращать, либо готовы отдать, да нечем. В результате в бюджете страны образовалась гигантская дыра, которую пришлось затыкать зарубежными займами, составившими не многим меньше названной суммы. Убрав кучу промежуточных операций, можно сказать, что за границу практически бесплатно была перекачана вся выручка за тюменскую нефть.
Тут уж неизбежен вопрос: почему при тех последних ортодоксальных генсеках великая держава так бездарно распорядилась своим невосстановимым богатством?
Обычно выдвигается одна причина: в непогрешимом Политбюро сидели маразматики и дураки, мечтавшие о построении коммунизма в тропической Африки и не умевшие отличить перспективных союзников от жуликоватых авантюристов, не привыкших платить долги. Однако даже дураки, обжегшись пять раз, на шестой непременно стали бы осмотрительней.
Почему же не стали?
Все объясняется куда проще, если предположить, что «золотом КПСС» распоряжались не фанатики и дураки, а вполне умные и оборотистые люди. И что нелепые сделки с продажей в долг без отдачи оружия и нефти на самом деле были лишь самой безопасной формой перекачки за рубеж громадных сумм валюты. Ведь в таком случае «откат» мог составлять и двадцать, и тридцать процентов. Конечно, семьдесят или восемьдесят все равно терялось. Но терялось-то государственное, а «откат» шел в личные кошельки, точнее, сразу на зарубежные счета. Причем, не из СССР, а из стран третьего мира, что надежно обрубало концы и лишало деньги криминальной родословной. Думается, не случайно дети, племянники и зятья партийных сановников служили в основном по международной части, поближе к зарубежным банкам, а Институт международных отношений всегда слыл «господским». И не случайно после развала диктатуры большинство этих отпрысков обернулось удачливыми бизнесменами, генеральными директорами, а то и президентами совместных и зарубежных фирм. А когда бывший завотделом ЦК приобретает дворец в Гамбурге, когда у коммунистической газеты вдруг обнаруживается греческий, а у фашистской иорданский спонсор — не таким ли путем выплачиваются проценты с безнадежных долгов?