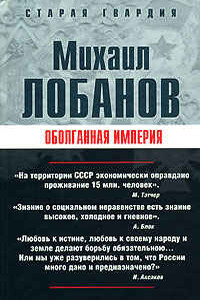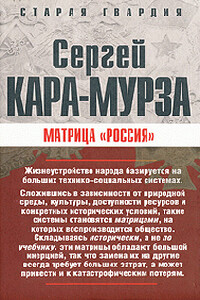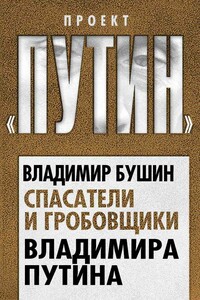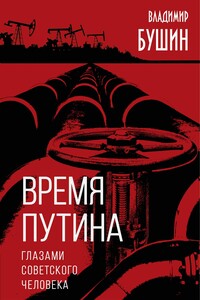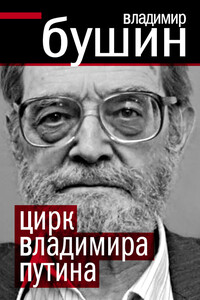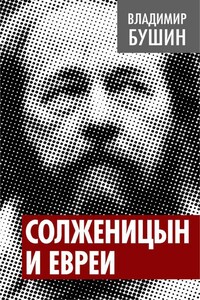Живые и мертвые классики | страница 18
Но самое-то главное в другом. Дело не только в засухе. Что такое 1891–1892 годы в России? Мирная спокойная жизнь. Страна уже давно не знает войн. В ту пору власть, возможно, действительно была в состоянии хорошо помочь голодающим, и странно, почему Кожинов не привел тут никаких фактов. А что такое 1921–1922 годы? Восьмой год идет страшнейшая война, и не где-то на чужой земле или за морем, как это было для американцев, англичан и немцев, а на своей собственной. Из Крыма только что вышибли Врангеля, японцы уберутся из Владивостока только 25 октября 1922 года… Как же можно ставить на одну доску возможность помочь голодающим тогда и теперь?
К тому же за голодом 1891–1892 годов последовал длинный ряд новых голодных годов — 1901,1905,1906,1907,1908, 1911–1912. Всего за последние 75 лет царского режима было 11 голодных годов, за этот же срок советской власти — два. Причем размах голода все время нарастал: 5-10-20-30-50 губерний. Наконец, в 1911–1912 годах, накануне 300-летия дома Романовых, столь широко и торжественно отмечавшегося, голод охватил 60 губерний. Сведения эти взяты из дореволюционной энциклопедии Брокгауза, до сих пор славящейся своей обстоятельностью и объективностью. Характерно и то, что голодные годы порой следовали один за другим кряду, например, четыре года с 1905 по 1908. Это говорит о том, что власть была бессильна предотвратить бедствие, даже зная уже о его угрозе. В советское время совсем иная картина и в этом смысле: благодаря усилиям власти и общества голод ни разу не вышел за пределы одного года. Больше того, в 1924 году неурожай поразил те же районы страны, что и в 1922-м, но благодаря своевременным мерам голода не было.
Возможно, Бахтиным навеян и такой пассаж. Кожинов цитирует передовую статью «Красной звезды», которую, по воспоминаниям генерала Л.П.Сандалова, перед нашим контрнаступлением под Москвой в начале декабря 1941 года читали солдаты: «Москва! Это слово многое говорит сердцу (выделено В.Кожиновым. — В.Б.). Москва — праматерь нашего государства. Вокруг нее собиралась и строилась земля русская, вокруг нее стоял народ всякий раз, когда ему грозили иноземные пришельцы. Древние камни Москвы овеяны славой наших предков…» и т. д. И Кожинов рассуждает: «Своего рода парадокс заключался в том, что редактором «Красной звезды», где появилась процитированная статья, был член партии с 1922 года Д.И.Ортенберг, а читал статью бойцам военный комиссар Т.И. Коровин, который, без сомнения, был воспитан в духе идеологии, не имевшей ничего общего с идеями прочитанной им статьи». Как видим, парадокс для Кожинова состоял здесь в том, что коммунисты даже с большим стажем, даже комиссары, оказывается, имеют сердце, которое — представьте