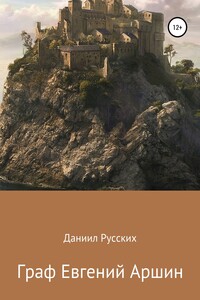Недоумок | страница 117
— Мой дорогой! Как же вы решились? Ну, да ничего, с Божией помощью мы всё одолеем. Клянусь, я вас не брошу. А теперь едем домой.
Квартира Светлейшего князя Голицына помещалась в массивном каменном доме девятнадцатого века. Александру Сергеевичу была выделена комната для прислуги, на последнем, шестом этаже, под самой крышей. В этой довольно убогой мансарде единственным украшением было окно, а так, стол, два колченогих стула, матрац и умывальник, уборная ниже этажом на лестничной клетке. В углу комнаты были свалены старые эмигрантские газеты и журналы, хорошо спрессовавшиеся от времени.
Вечерами, Александр Сергеевич погружался в эту кипу, и с удивлением и болью открывал для себя историю своей страны, так надёжно скрытую советской цензурой. О многом он слышал по «вражьим голосам», но далеко не всё, особенно события хрущёвской оттепели, процессы над диссидентами, посадки, закрытие церквей; пятидесятые годы, которые не только для него, да и для всей советской интеллигенции были надеждой на начало новой эры, но очень быстро переродилось в очередное закручивание гаек. Оттепель, оказалась зимней слякотью. Интеллигенции выдали аванс, потом, их же посадили на крючок и они получили свободу, в виде фиги в кармане, продолжая травить анекдоты на кухне.
Голицын открывал окно садился с ногами на подоконник, курил, слушал курлыканье голубей, смотрел на крыши, а дальше через них открывался вид на холм с белоснежным Сакрэ — Кёром, где-то справа маячил уродливый небоскрёб Монпарнаса, золотой купол музея Инвалидов… Можно было не двигаться, стараться ни о чём не думать, где-то внизу шумел город, он провожал закаты, а время как бы замерло, растеклось, словно кисель по тарелке и подёрнулось дрожащей плёнкой. Что будет завтра, послезавтра, через неделю — Голицыну было безразлично, в глубине сознания происходила глухая работа, он противился ей, старался не замечать, но чем больше ему приходилось погружаться в рутинность новой жизни, тем больше он понимал, что даже после своего прыжка в неизвестность, с удачным приземлением ему далеко ещё до душевного выздоровления. Да и как себя не растерять? Ах, было бы ему не шестьдесят, а двадцать!
Не зажигая света, скорчившись на подоконнике, он всматривался не только в ночь, но и в своё прошлое; в памяти всплывали образы детства, разговоры с мамой, их мытарства, и ненависть к жене. Было ли ему стыдно за свои преступные мысли? На этот вопрос он не мог ответить, но вполне сознавал, что осуществи он тогда свои замыслы, (а были моменты, когда он был на грани), то сейчас он не любовался бы Парижем.