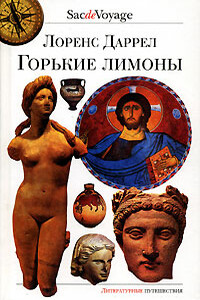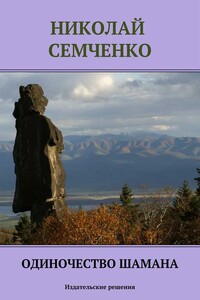Ливия, или Погребенная заживо | страница 49
Ведомство не удосужилось — хотя бы ради соблюдения приличий — объявить эту должность почетной,[72] что, возможно, подвигло бы Галена назначить ему содержание. А так Феликсу платили как простому клерку в адвокатской конторе. Единственный помощник, который полагался ему по протоколу, и тот был нанят на неполный рабочий день. Он должен был следить за. незначительными расходами своего начальника и печатать отчеты, если тот писал их. Собственно, отчитываться было не в чем, ведь когда в Авиньон приезжали британские подданные, они в консульство не заглядывали. Вилла утопала в пыльных олеандрах и пуансеттиях. Если бы только его мать могла видеть его — Слуга Короны! Издав нечто похожее на язвительный смешок, он повернулся на бок. И все же она должна гордиться им. Неожиданный всплеск не совсем осознанных желаний и надежд вызвал в памяти картину, от которой у него всегда перехватывало дыхание, словно он загнал шип под ноготь. Тогда он открывал глаза и явственно видел ее, всю высохшую, кожа да кости, в инвалидном кресле. Глядя на пыльную голую электрическую лампочку, свисавшую с потолка, Феликс в тысячный раз задумался о своей жизни. Его отец умер, когда он был еще совсем маленьким; через несколько лет мать завела долгий, не нарушающий рамок приличия роман с его братом, энергичным Галеном (все чрезвычайно осмотрительно, никаких двусмысленных ситуаций). Эти отношения длились, пока прогрессирующий паралич не приковал ее к креслу-каталке, которое возил специально нанятый помощник — в перчатках, в длинном сером плаще, в шляпе-котелке. Феликс слышал знакомое шуршание узких шин на гравиевых дорожках в садах Феликстоу, Хэррогита, Борнмута и прочих курортов. Когда ее недуг стал слишком тяжким, она из гордости порвала связь с Галеном — ей было невыносимо его обременять, мешать его блестящей карьере. Гален принял ее решение с радостным облегчением, хотя и чувствовал себя предателем. Разумеется, он клятвенно пообещал, что она ни в чем не будет нуждаться. Связь с ней он поддерживал через врачей, но напрямую не написал больше ни разу, ибо этот лихой «пират» всегда испытывал суеверный страх перед бумагой и чернилами. Ему вдолбили, что письмо — это документ, который может сыграть с тобой злую шутку, если вдруг зайдет речь о суде, вот откуда эта непристойная боязнь. Но даже если бы он, вдруг расхрабрившись, написал ей, она не ответила бы, поскольку не могла держать ручку; говорила она с большим трудом, весьма нечленораздельно. Нижняя челюсть у нее отвисла и слегка перекосилась, и от этого изо рта постоянно текли слюни. В нескрываемом ужасе от своего состояния, она лишь молча смотрела черными глазами, в которых тлел смертельный страх. Ее помощника звали Уэйдом, и он украшал свой котелок перышком фазана. Теперь он был ей роднее сына и любовника. Теперь она жаждала лишь одного — умереть, избавиться от всего этого кошмара… Уэйд каждый вечер не меньше двух часов читал ей Библию.