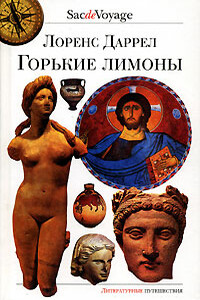Ливия, или Погребенная заживо | страница 28
— Вся проблема в том, что вы всегда думаете одномерно, в духе старых писателей. Едва ли вам удастся придумать серию книг со сквозными персонажами, которые представляют все человечество и как бы иллюстрируют идею реинкарнации. В конце концов, и мужчины и женщины существа многомерные, полифонические. Им известно, что в прошлом у них были другие жизни, вот только неизвестно, кем они были; всё, что они ощущают, — это груз кармы, поэзию прежних воплощений, зафиксированных в сумраке былого.
— До чего же мне надоели все эти рассуждения о
времени.
— Мне тоже, но ничего не поделаешь — возраст. Рано или поздно мы приходим с ним в согласие, ведь мы знаем, что календарное время скорее обычай, чем истина. Время — это одна большая простыня. Точно так же, как болезнетворные микробы, скажем, туберкулеза, затаились внутри нашего организма в ожидании благоприятного момента, чтобы атаковать, так и время… Его личинки уже внедрились в плоть и терпеливо ждут предназначенного вам часа смерти, чтобы обрести волю. Пиа становится Ливией, Ливия будет Пиа, какое это имеет значение? Где-то в тайниках времени им дано знать друг о друге и о своем происхождении.
— Вы бы могли углубиться еще дальше?
— Естественно.
— Что же мы тогда, если не живущие одновременно художники, «симметрично погибающие», если воспользоваться выражением мадам де Сталь?
— Но ведь и Ливия — даже Ливия иногда плакала, хотя вам трудно в это поверить. В первый раз мы любили друг друга почти детьми среди рододендронов Пон-дю-Гар, когда она принялась разрушать мое восторженное отношение к Ту. И даже тогда она была опытной женщиной, королевой ринга, подстрекательницей — я покорно подчинялся, как пьяный. Только пережив не одну дюжину любовных приключений, я научился распознавать, когда твоя дама спит с тобой, на самом деле воображая кого-то другого, а то и себя самое. Теперь меня так просто не проведешь. Что было потом? Потом она подошла к дереву и прижалась лбом к стволу, и у нее вырвалось короткое сухое рыдание. Оно не предназначалось для чужих ушей и потому особенно поражало, ведь даже уступив этой своей слабости, она не утратила сдержанности. Прежде чем я успел нежно обнять ее за плечи, от слез не осталось и следа, словно их никогда не было. Тогда мне и в голову не пришло, что это могли быть слезы раскаянья — ведь любила-то она Ту, и ей противно было изменять. Ливия так сильно любила Ту, что не могла уступить ее мне. Но понял я это лишь много лет спустя. И, размышляя о случившемся, возможно, сожалея, я невольно думал, что должен быть ей благодарен. Ибо взяв меня в плен, она помешала мне обручиться с Ту, ведь эта любовь стала бы преждевременной, эфемерной. Если я был недостаточно опытен для Ливии, то уж для Ту тем более. Наверно, это все равно, что учиться вождению на старом, во всяком случае, не новом автомобиле, прежде чем приобретать новую и дорогую машину? Не знаю. Но думаю, мне повезло с Ливией — хотя перемена возлюбленной повлекла за собой многие другие, в первую очередь в отношении ко мне Ту. Однажды я спросил ее, была ли она тогда влюблена в меня, и она написала: «Да, скорее всего, хотя вряд ли я тогда это понимала. Меня мучила какая-то странная боль, определенно связанная с вашим присутствием. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. Диагноз я так и не смогла себе поставить, но что-то вроде ожогов третьей степени. Но, как видите, я до сих пор жива, счастлива и полна энергии».