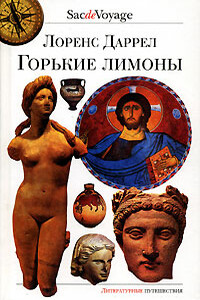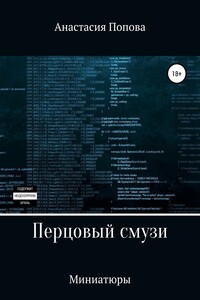Ливия, или Погребенная заживо | страница 116
Но если на то пошло, то никогда еще он так не любил, какой бы смысл мы не вкладывали в слово «любовь». Любым другим видам транспорта они предпочитали сверкающие юркие такси, вспыхивавшие в лабиринте улиц, как метеориты. Стоило автомобилю съехать с гладкой щебенки на булыжники, как слившиеся в поцелуе влюбленные на заднем сидении начинали подскакивать, словно их страсть благодаря pavé[141] делалась более неистовой. Безразличные к прославленным красотам привлекательнейшего из городов, они становились масонами, членами великого ордена парижских влюбленных, так же благоговейно, как «вольные каменщики», держась за руки. Они сидели, не разнимая рук, на Пон-дез-Ар,[142] молча льнули друг к другу в «Клозери де Лила» или шумном «Дом». Они тонули в потоках новых книг и идей. Чтобы удержаться на плаву, он читал и читал, сидя то в кафе, то в скверике. Это была эпоха ошарашивающих Гертруды Стайн, Пикассо и первых потрясших общественные устои литературных опытов американских гигантов, таких, как Фицджеральд и Миллер. Сам же Блэнфорд уже дозрел до того, чтобы понять: Европа стремительно приближается к концу «мочеполового периода» в литературе — более того, он распознал первые сигналы неминуемой импотенции. Вскоре секс как предмет искусства изживет себя. «Даже сам акт умирает, — позволил он заметить Сатклиффу, — и не за горами день, когда он станет такой же обыденностью, как игра в бадминтон. Еще какое-то время кино, возможно, сохранит его в качестве символического знака — непроизвольного, как чиханье или икота — символическое насилие над равнодушной жертвой, жующей яблоко». Он добавил: «Будущее проще всего увидеть из Франции, поскольку французы все доводят до крайности, до абсурда. Грядет аудио-иудео-визуальная эпоха — эпоха Мутона Ротшильда с очевидным и повсеместным превосходством еврейского интеллекта, что, собственно, и объясняет зависть немцев».