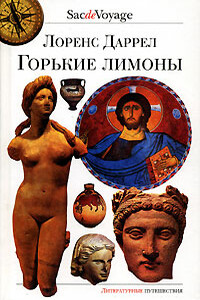Ливия, или Погребенная заживо | страница 112
— Что изменилось? — тихо спросил он с болью и страхом, сам не зная, почему так боится ее ответа.
— Я не готова к этому… Пока. И возможно, никогда не буду готова. Поживем, увидим.
Видимо, решив хоть как-то компенсировать свою обидную несговорчивость, Ливия, бросившись в воду, приблизилась к Блэнфорду и вплыла в его объятья, требуя ласк и поцелуев; ее тело мерцало, она была похожа на рыбку, попавшую в сеть. Мир был восстановлен — и все-таки Блэнфорда не оставляла щемящая грусть, сожаление о несостоявшейся душевной близости. Поэтому между ними пролегла незримая тень.
— Я все время скучала по тебе… и у цыган, и у Рикики, и у Феликса, и у Катрфажа…
Он улыбнулся в ответ, но потом вдруг очнулся, словно от толчка, и сказал себе: «Ей ничего не стоит соврать». Позднее он пытался найти кольцо, но тщетно. Неужели Ливия все же взяла его? Выяснять он не стал.
Глава шестая
Возражения
Нагулявшись по извилистым тропкам памяти, совершив множество (как бы заключенных в скобки) лирических отступлений, мысли наконец-то угомонились, решив отдохнуть. После чего воцарилась долгая пауза, которая обоим писателям показалась бесконечной.
— Эй! Алло! — крикнул Сатклифф, чуть ли не с детским ужасом.
Призраки всегда паникуют, когда им не дают возможности как-то обозначить свое присутствие — когда они остаются не у дел, так сказать, — им кажется, что это грозит самому их существованию.
Ладно. Предположим, только на секунду, что Блэнфорд забыл и думать о нем! Что тогда? Тогда все, конец! Любопытно, что Блэнфорда мучили те же опасения, ведь он знал: как только призраки перестанут вносить свою лепту в копилку его памяти, отстанут от него, разлюбят, тогда все, конец. Был писатель, и нет его, его выключили, как лампу. Спросите у любого художника! Секунду-другую Блэнфорд не мог вымолвить ни слова, занятый возникшей в его воображении картиной; он роняет старомодную трубку на подлокотник кресла и с холодной настойчивостью вглядывается в огонь, потому что там вдруг возникло лицо Констанс; но оно сливается с языками трепещущего пламени, и постепенно исчезает. На другом конце провода Сатклифф слышал неровное трудное дыхание.
— Ради Бога, — завопил он, — Обри, почему вы молчите?
Однако коллегу Сатклиффа внезапно настигло творческое бессилие: он не представлял, как втиснуть в несколько страничек эту лавину событий и океан впечатлений в тот короткий период, так грубо, так варварски оборванный грянувшей войной. Мелькнувший в огне образ Констанс вновь оживил прошлое, изумительно богатое, невероятно многообещающее… потом вдруг ничего не осталось, все кануло в черную ночь нацистской Европы. Так на чем они с Сатклиффом остановились? Ну да, война. Целый год прошел после того, как она была объявлена, но никто и не думал трогаться с места. Французы прятались за своими фортами, дивясь странному оцепенению, сковавшему всю Европу. Между тем Париж и Лондон жили привычной жизнью — почта работала без перебоев, телефонные станции тоже работали нормально, и в небе не видно еще было самолетов-бомбардировщиков. Лишь несколько грязноватых аэростатов заграждения повисли над Темзой. Где-то в туманной аморфной глубине коллективного разума шла лихорадочная работа: он настраивался на изобретение оружия, способного помешать нападению немецкой армии, в которое никто почему-то не верил. В вялом оцепенении чувствовалась обреченность, прощание с роскошью мира, грустное прощание с великими столицами, которые, одна за другой, должны пасть жертвами рока. Прощайте, Париж и Рим, Афины и Мадрид… Так хотелось многим еще разок взглянуть на эти города, почувствовать их живой пульс, прежде чем он навсегда замрет. Но было слишком поздно, ведь война уже объявлена официально. Прошли месяцы, даже годы, прежде чем люди поняли, что война неотвратимо приближается, что тучи на горизонте сгущаются все сильнее. Многие как-то сживались с этим, поскольку знали, что ничего нельзя поделать.