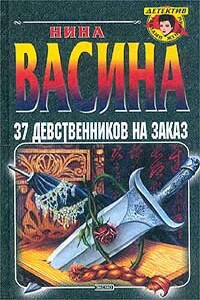Приданое для Царевны-лягушки | страница 12
– Бросьте. Сами только что рассказывали, как мы преобразуем реальность себе на пользу. Я бы никогда не затронул подобную тему, не будь вы так настырны в своем противостоянии. Жаль.
– Вам – жаль? – Платон вскинул глаза на все еще сидящего на столе Птаха.
– Конечно. Я думал, мы договоримся по-дружески. Знаете что? Давайте вычеркнем из памяти последние десять минут нашего разговора. Я предложил вам поселить у себя на пару месяцев осиротевших племянников. Вам эта идея не очень понравилась, как и любому закоренелому холостяку, но, подумав, вы согласились. И завтра встретите их рейс из Москвы. Ладушки?
Платон молчал.
– А может, и этого времени не потребуется, – задумался Птах. – Может, за пару недель этих юношей отравят, задавят, или они сами свернут себе шею. Трудные, неуправляемые подростки!.. – он мечтательно закатил глаза. – Отделаетесь дополнительными похоронами, и все дела.
– То, что вы сказали, – отвратительно, – произнес Платон.
– Согласен, – кивнул Птах.
– Да не захотят они со мной жить! Взрослые мужики, богатые, самодовольные! Они с восьми лет кошек на деревьях вешали! Знаете, что им подарил брат на совершеннолетие старшего? По пистолету! И знаете, куда они с ними тут же пошли? В подвал – отстреливать крыс!
– А вот тут вы не правы. Они просто мечтают о встрече с вами. Сами увидите. Пошире расставьте ноги, чтобы не упасть, когда они от радости кинутся вам на шею.
Тщательно и неспешно одеваясь, словно исполняя ритуал, Платон старался не смотреть на себя в зеркало, но с галстуком не удержался – завис глазами на отражении золотой заколки в пальцах-сардельках и в который раз подивился огромности и удручающей несуразности своего тела. Оно занимало слишком много места, требовало постоянного ухода и было совершенно несообразно той нежной трепетности, с которой Платон постигал действительность. До сих пор жизнь продолжала его волновать и удивлять с той же настойчивостью, с какой подвергала в пятилетнем возрасте бессмысленным испытаниям на выживание, в двенадцатилетнем – стыду и лжи, в ранней молодости – обидам, а что такое зрелость, Платон не понимал до сих пор. Он по-прежнему боялся душой чужой нищеты, болезней привокзальных бродяжек, собачьей бездомности, а при виде мертвых тушек птиц или мелких животных на шоссе отводил глаза и бормотал про себя «...тьфу-тьфу-тьфу три раза, не моя зараза – ты будешь сто лет гнить, а я буду сто лет жить». Сразу же после такой скороговорки на Платона накатывала тоска от необходимости жить сто лет. Тоска в конце концов помогала ему преодолеть щемящее чувство боли за раздавленную колесами кошку или разбившуюся о лобовое стекло птицу – «...тоска смещает все вещи, людей и тебя самого вместе с ними в одну массу какого-то странного безразличия. Этой тоской – как удачно, с точки зрения Платона, подметил Хайдеггер – приоткрывается сущее в целом». Платон уходил в безразличие с потаенной надеждой на тайну – сущее!.. в целом...